Глава VI. Не запланированная, но не лишняя
Теория хороша, но при некоторых условиях. Если
она хочет формулировать жизнь, то должна
подчиниться ее строгому контролю. Иначе она
станет посягать на жизнь, закрывать глаза на
факты, начнет, как говорится, нагибать к себе
действительность... Иначе, конечно, и быть не
может. Раз положенное ложное начало ведет к
самым ложным заключениям, потому что теория
любит последовательность. Раз положенное
узкое, одностороннее начало непременно, по той
же самой последовательности теории, поведет к
отрицанию тех сторон жизни, которые
противоречат принятому принципу.
Ф. Достоевский
В статье В. Киселева с многообещающим заголовком «Возвращаясь к ленинским принципам» (1988) история социализма подразделяется на три основных этапа:
1) «военный коммунизм» (1918—1921), когда, по словам автора, «была попытка осуществить концепцию, созданную К. Марксом и Ф. Энгельсом»;
2) «концепция, созданная В. И. Лениным в ходе новой экономической политики» (1921 - 1929);
3) «сталинская, определившая во многом нынешние деформации общественных отношений, с которыми теперь ведется борьба».
Фактически четвертым этапом В. Киселев считал происходящую «перестройку».
Данный «анализ» необычен и легко запоминается. Этим исчерпываются его достоинства. Во всех прочих отношениях он несостоятелен.
Во-первых, В. Киселев, как и некоторые другие, только по ему ведомым мотивам совершал недопустимый с научной точки зрения маневр: он исключал из истории ленинскую концепцию экономической политики партии, своевременно разработанную в 1917 — 1918 годах до начала гражданской войны. Эта концепция разносторонне обоснована в ряде предоктябрьских и послеоктябрьских работ Владимира Ильича, развита им после отказа от политики «военного коммунизма».
Во-вторых, «военный коммунизм» имел весьма мало общего с концепцией социализма, созданной Марксом и Энгельсом. Не прибегаю к цитированию, потому что содержательные высказывания Маркса и Энгельса против «казарменного коммунизма» с самого начала их политической деятельности глубоко впечатались в сознание не только специалистов. Ленин считал «военный коммунизм», то есть принудительное изъятие у крестьянства излишков и даже части необходимого ему продовольствия ради спасения промышленности и пролетариата, обеспечения воюющей Красной Армии, а также милитаризацию труда и другие чрезвычайные акции, вынужденной мерой. На этот счет имеется опять-таки немало совершенно достоверных документальных свидетельств. Поэтому естествен вопрос: зачем отдельные авторы приписывают «военному коммунизму» статус чуть ли не классической модели социализма? На этой пози¬ции стоит и А. Ципко.
В-третьих, ленинская концепция нэпа была концепцией перехода к социалистическому обществу, его построения, но не концепцией самого этого общества. В партии еще в 20-х годах подвергалась убедительной критике попытка отождествить нэп с социализмом. С высказываниями Н. Крупской на этот счет читатель уже знаком. Вопрос считался решенным, и вот теперь, спустя более шести десятилетий он опять поставлен в центр дискуссий.
Что же касается социализма в сталинско-маоцзедуновском понимании, то о его методологической неполноте уже немало сказано раньше и по мере необходимости будет говориться в дальнейшем. Всесторонняя научная оценка этого понимания возможна только с ленинских позиций. Легковесное скорописание на данную, сделавшуюся бойкой, тему может лишь закрепить старые предрассудки и породить новые.
1. Был ли нэп новой политикой?
Ленин отвечал на этот вопрос отрицательно. Еще менее находится в его суждениях аргументов в пользу того, ныне широко распространенного взгляда, будто Владимир Ильич на рубеже гражданской войны и гражданского мира создал, дескать, «новую» модель социализма, существенно отличающуюся от взглядов на этот предмет как Маркса и Энгельса, так и самого Ленина до начала 20-х годов. Восстановление подлинно ленинских взглядов на новый строй и пути его формирования немыслимо ни без скрупулезно-систематического исследования соответствующих документальных источников, ни без очищения этих взглядов от наслаивавшейся десятилетиями шелухи догматизма и субъективизма.
В бессмертной сатире Свифта Гулливер во время путешествия в Лапуту посещает остров чародеев и волшебников Глаббдобдриб, обитатели которого, повинуясь причудливой фантазии автора, обладали способностью вызывать духи умерших. Вначале общество теней пугало Гулливера, но вскоре он свыкся с обстановкой, и естественное любопытство к историческим личностям превозмогло в нем все другие эмоции. «Мне пришло на мысль, — рассказывает Гулливер, — вызвать Гомера и Аристотеля во главе всех их комментаторов; но последних оказалось так много, что несколько сот их принуждены были подождать во дворе и в других комнатах дворца. С первого же взгляда я узнал этих двух героев и не только отличил их от толпы, но и друг от друга. Гомер был красивее и выше Аристотеля, держался очень прямо для своего возраста, и глаза у него были необыкновенно живые и проницательные. Аристотель был сильно сгорблен и опирался на палку; у него было худощавое лицо, прямые редкие волосы и глухой голос. Я скоро заметил, что оба великих мужа совершенно чужды остальной компании, никогда этих людей не видели и ничего о них не слышали. Один из призраков, имени которого я не назову, шепнул мне на ухо, что на том свете все эти комментаторы держатся на весьма почтительном расстоянии от своих принципалов, благодаря чувству стыда и сознанию своей виновности в чудовищном искажении для потомства смысла произведений этих авторов. Я познакомил Дидима и Евстафия (римский комментатор (эпоха Августа) творчества Гомера и византийский комментатор (XII век) гомеровых поэм. — Ред.) с Гомером и убедил его отнестись к ним лучше, чем, может быть, они заслуживали, ибо он скоро обнаружил, что оба комментатора слишком бездарны и не способны проникнуть в дух поэта. Но Аристотель потерял всякое терпение, когда я представил ему Скота и Рамуса (шотландский теолог-схоласт (рубеж ХШ—XIV веков) и французский философ (XVI век). — Ред.) и стал излагать ему их взгляды; он спросил их, неужели и все остальное племя комментаторов состоит из таких олухов, как они».
Думаю, многие наши коллеги, профессионально занимавшиеся комментированием классического наследия, оказались бы в столь же незавидном положении, случись с ними нечто подобное...
На II Всероссийском съезде политпросветов (октябрь 1921) Ленин определил нэп как новую политику лишь по отношению к предыдущей, то есть политике «военного коммунизма», и тут же внес необходимое уточнение: «А по сути дела — в ней больше старого, чем в предыдущей нашей экономической политике» [44,156]. В этом вопросе среди большевиков практически не было разногласий.
«Подходя к вопросу о нашей новой экономической политике, мы видим, что вопрос этот разрешается очень просто, — говорил К. Радек на X Всероссийской конференции РКП (б). — Мы были принуждены к ней не только переходным периодом, продовольственными затруднениями, были принуждены соотношением сил, которые мы понимали великолепно и перед революцией».
О какой старой экономической политике, прерванной «военным коммунизмом» и теперь возобновляемой при нэпе, шла речь? О той, что разрабатывалась партией и в непосредственно предоктябрьский период и в первые месяцы Советской власти, но стала невозможной из-за срыва мирной передышки, развертывания иностранной военной интервенции (май 1918) и гражданской войны.
«В России мы начали не с «военного коммунизма», а с так называемого нэпа, — подчеркивал Н. Бухарин. — Затем подоспела интервенция, колоссальное обострение классовой борьбы, принявшей форму гражданской войны, — возник «военный коммунизм». А дальше последовал возврат к нэпу. Ленин на эти темы писал, и эти проблемы, думаю, для всех товарищей ясны».
Начиная с февраля 1917 года, Ленин указывал на невозможность прямого приступа при теперешнем состоянии российской экономики к строительству социализма без целой серии переходных мер, в значительной мере носящих пока что не социалистический, а общедемократический характер. «Апрельские тезисы» и «Грозящая катастрофа и как с ней бороться?», «Удержат ли большевики государственную власть?» и «Как организовать соревнование?», «О «левом» ребячестве и о мелкобуржуазности» и «Очередные задачи Советской власти» — все эти работы представляют собой целостную программу перевода буржуазно-демократической революции на экономические рельсы социалистических преобразований, решения проблем созидания нового мира средствами, приноровленными к имеющимся в данный момент хозяйственным условиям.
«...Мы не переоценивали ни зародышей, ни начал социалистического хозяйства, — говорил Ленин на IV конгрессе Коминтерна об экономической концепции партии весной 1918 года, — хотя мы уже совершили социальную революцию; напротив того, мы уже тогда в известной степени сознавали: да, было бы лучше, если бы мы раньше пришли к государственному капитализму, а уже затем — к социализму».
Разумеется, заранее готового плана отступления, обычно связываемого с нэпом, у большевиков тогда не было. Не предусматривалось, например, введение свободы торговли, имеющей для госкапитализма жизненно важное значение. Но все же общая, хотя и неопределенная, идея отступления у партии уже имелась, и это нашло отражение в политических документах. Так, в решении ВЦИК от 29 апреля 1918 года указывалось на необходимость считаться с крестьянской экономикой и неизбежно связанной с этим огромной ролью персональной, индивидуальной, единоличной ответственности как фактора управления страной. 30 октября 1918 года был принят закон, вводящий натуральный налог с земледельца, но после его объявления вышел ряд инструкций, и закон остался не применённым. Обострившаяся военная обстановка сорвала осуществление нормальной экономической политики, и ей было суждено возродиться лишь спустя почти три года в виде нэпа.
Одна из расхожих версий западной литературы, к сожалению, без проверки принятая некоторыми российскими обществоведами (Ю. Афанасьев и др.), состоит в том, что большевики ни до, ни после Октября не располагали-де солидной экономической программой и не знали вплоть до 1921 года, что они после прихода к власти будут делать в области народного хозяйства. Все содержание ленинских работ 1917— 1923 годов опровергает подобные взгляды. Не отсутствие четкой позиции по вопросам экономического развития, — она у партии была, — а чрезвычайные обстоятельства, в которые поставила осажденную со всех сторон молодую Советскую республику внешняя и внутренняя контрреволюция, объясняют, почему мероприятия, подобные нэповским, не стали проводиться намного раньше.
«...Конечно, — говорил Ленин коминтерновцам, — в то время... мы были поглупее, чем сейчас, но не настолько уж глупы, чтобы не уметь рассматривать такие вопросы» [45, 280, 279].
Этим, с одной стороны, опровергается клевета насчет экономической недальновидности большевиков, а с другой — доказывается безответственность игнорирования экономических установок партии 1917—1918 годов и утверждений, будто бы она начала свою экономическую политику прямо с «военного коммунизма». «Военный коммунизм» оказался необходимым с точки зрения конкретно-исторических условий отстаивания завоеваний социалистической революции, в которую переросла буржуазно-демократическая революция в данной, отдельно взятой стране, но он был скорее случайностью, чем необходимостью с общеисторической точки зрения. Он был, но мог и не быть, если бы осуществились ленинские надежды, связанные с заключением Брестского мира. Изображение «военного коммунизма» как общеисторической закономерности или же приписывание такого понимания его большевистской партии, идущее вразрез с марксистско-ленинским истолкованием диалектического соотношения необходимости и случайности, есть одна из составляющих того общеизвестного явления, которое обозначали как идеологию и психологию культа личности.
2. Это коварное «три К»
Социализм не мог в готовом виде проклюнуться из капитализма, появиться, как Афина из головы Зевса — в полном вооружении и с боевым кличем. Поэтому употребление для его характеристики только формулы К— К— К («три К». См.: глава IV, §4), без каких-либо дополнений и уточнений, выглядит как раскритикованное Лениным абстрактно-умозрительное противоположение «капитализма» — «социализму», без желания и умения вникнуть в конкретные формы и ступени перехода от первого ко второму.
«...О целом периоде перехода от капитализма к социализму, — писал Влади¬мир Ильич, — учителя социализма говорили не зря и подчеркивали не напрасно «долгие муки родов» нового общества, причем это новое общество опять-таки есть абстракция, которая воплотиться в жизнь не может иначе, как через ряд разнообразных, несовершенных конкретных попыток создать то или иное социалистическое государство» [36, 301-302].
Огромные социально-демо-географические пространства, на которых происходило опробование некапиталистических форм жизнеустройства, отличались исключительным* многообразием условий, пестротой культурно-исторических черт, что естественно сказывалось на облике отдельных социалистических или же ставящих перед собой цель перейти к социализму обществ. Это необходимо иметь в виду хотя бы для того, чтобы нешаблонно судить о становлении новой формации, о степени приближения к ней в разных странах.
Достаточно сказать, что ни в одной из бывших и теперешних стран социализма в момент установления диктатуры рабочего класса первое «К», обычно обусловленное машинным характером труда, не было безраздельно господствующим, а в большинстве из них и не преобладало. Это означает, что социалистический строй начал развиваться при наличии адекватной ему техники и технологии лишь в части народного хозяйства, в то время как другая, как правило, большая его часть имела технику и технологию, которым соответствовали главным образом частнособственнические отношения.
Экономика России вскоре после революции являла собой мозаичную картину, составлявшуюся из пяти видов хозяйственных укладов. Это были 1) патриархальное, то есть в значительной степени натуральное, крестьянское хозяйство; 2) мелкое товарное производство (сюда относилось большинство крестьян из тех, что продают хлеб); 3) частнохозяйственный капитализм; 4) государственный капитализм; 5) социализм. Производительные силы, технологию и организацию производства, хоть в какой-то степени подготовленные к социалистическому обобществлению, помимо пятого уклада, имели четвертый и третий. Третий в большей мере, а первый и второй полностью базировались на средствах труда индивидуального пользования, иначе говоря, преимущественно или целиком применяли не машинный, а ручной труд, и в то же время количественно преобладали в стране.
Таким образом, с учетом характера средств труда и его организации мы имели типы:
\) К— К— К (национализированная индустрия);
2) И— К— К (государственные и кооперативные социалистические хозяйства, временно довольствовавшиеся техникой ручного труда);
3) К— К— И (государственно-капиталистические и отчасти частнокапиталистические предприятия);
4) И— К— И (частнокапиталистические предприятия, в том числе крестьянские хозяйства, использовавшие наемный труд без применения машин);
5) И— И— И (крестьянские хозяйства, обходившиеся без батраков).
При этом на одних и тех же социалистических предприятиях, как правило, уживались вместе первая и вторая формы, на одних и тех же капиталистических — третья и четвертая. Такова типичная картина переходного периода, политическим содержанием которого является государственная гегемония рабочего класса и который экономически сводится к распространению в народном хозяйстве формы К— К— К. Степень близости к решению этом задачи служит объективным критерием социалистической зрелости общества.
Практически полного «три К» в то время нигде не было, как, впрочем, и потом, при 40 % ручного труда в госпромышленности (данные середины 80-х годов), они попадались, так сказать, пятнами в тех местах, где успешнее шел технический прогресс, где развивались передовые, наиболее перспективные отрасли. Поэтому в социалистическом секторе можно было фиксировать не К— К— К, что виделось лишь в идеале, а К(И)— К — К , то есть совмещение в разных соотношениях техники и технологии машинного труда с техникой и технологией труда ручного при коллективистской организации и коллективном присвоении средств и продукта производства.
В обществоведческой литературе немало внимания было уделено многоукладности экономики переходного периода, но обычно она истолковывалась только в одном аспекте — как наличие в народном хозяйстве социально-экономических форм, принадлежащих к антагонистическим видам собственности — частной и общественной. Это типичный подход сторонников первоначальной, сталинско-маоцзедуновской интерпретации социализма. В то же время оставлялась вне поля зрения не собственническая, а технологическая «многоукладность», вызываемая сосуществованием весьма неодинаковых уровней технической оснащенности, наукоемкости и интеллектуализации труда в различных отраслях, на разных предприятиях, даже на данной фабрике или заводе. Все усилия, вся страсть сосредоточивались на том, чтобы добиться единоукладности на базе общественной собственности, и когда этой цели тем или иным способом, в том числе военно-административным, добивались, было принято считать завершенными социалистические преобразования.
С этим пониманием социализма выросли многие миллионы людей. Подавляющее их большинство не знало, что решалась только наиболее легкая часть задачи. Тем временем технологическая «многоукладность» переходила в наследство новому строю, волочилась за ним, как цепь, привязывающая к ремесленной системе труда, а значит и способная повлечь — в случае отсутствия энергичных, скорых и квалифицированных мер по подъему производительных сил — к возврату более органичных для этой системы частнособственнических форм. Как бы далеко ни зашло формальное обобществление труда и производства, оно без подкрепления обобществлением реальным через ряд застойных лет неизбежно ведет к частичному или полному откату революции назад, к частной собственности на средства производства. Эта возможность явилась одной из составляющих предкризисного состояния нашего общества конца 70-х — первой половиной 80-х годов. Она могла быть устранена, во-первых, поворотом к требованиям научно-технической революции, во-вторых, ликвидацией постепенно возникшего «квази-отчуждения» работника от средств производства, в-третьих, легализацией и освоением тех видов экономической активности, которые в скрытом, подпольном состоянии дырявили социалистические производственные отношения, а, будучи открыто признаны и поставлены в рамки закона, оказывались в здоровой комбинации с общественным сектором, приобретали переходный характер. Такие «перестроечные» меры напрашивались и предлагались давно, но проводить их стали не по научным выкладкам и не в отечественных интересах, а под влиянием захлестнувшей Запад волны неоконсерватизма. Комплекс технологической неполноценности сыграл роль своего рода memento (помни (лат.). — Ред.) социализма. Этот комплекс, используемый как оружие контрреволюции, может его и погубить.
«Самая трудная задача при крутых переходах и изменениях общественной жизни, — утверждал Ленин, — это учесть своеобразие всякого перехода. Как бороться социалистам внутри капиталистического общества — это задача не трудная и она давно решена. Как себе представить развитое социалистическое общество — это тоже нетрудно. Эта задача тоже решена. Но как практически осуществить переход от старого, привычного и всем знакомого капитализма к новому, еще не родившемуся, не имеющему устойчивой базы, социализму — вот самая трудная задача. Этот переход займет много лет в лучшем случае. Внутри этого периода наша политика распадается на ряд еще более мелких переходов. И вся трудность задачи, которая ложится на нее, вся трудность политики и все искусство политики состоит в том, чтобы учесть своеобразные задачи каждого такого перехода» [40,104].
Из этого ленинского рассуждения для изложения нашей темы особенно важны две истины.
Первая: нетрудно представить себе развитое социалистическое общество (для тех, кто сейчас делает вид, что не знает его признаков, заметим: это Ленин говорил на сессии ВЦИК 2 февраля 1920 года).
Вторая: вся трудность задачи состоит в том, чтобы учесть своеобразие каждого этапа, прежде всего этапа, переживаемого в данный момент, перехода к социализму.
Обращение к первой истине актуально по той причине, что представление о развитом социалистическом обществе, которое, по их собственным свидетельствам, удавалось составить еще современникам Ленина, покрылось таким количеством всевозможных наслоений, что для его восстановления необходимо предпринять определенные усилия. Свою руку сюда приложили как торопливые публицисты разных мастей, так и представители многочисленных школ немарксистского социализма, очень распространившихся в последние десятилетия.
«Право, мне все кажется, — писал Достоевский о положении в русской литературе 1870-х годов, — что у нас наступила какая-то эпоха всеобщего «обособления». Все обособляются, уединяются, всякому хочется выдумать что-нибудь свое собственное, новое и неслыханное. Всякий откладывает все, что прежде было общего в мыслях и чувствах, и начинает со своих собственных мыслей и чувств. Всякому хочется начать с начала. Разрывают прежние связи без сожаления, и каждый действует сам по себе и тем только и утешается. Если не действует, то хотел бы действовать. Положим, ужасно многие ничего не начинают и никогда не начнут, но все же они оторвались, стоят в сторонке, глядят на оторванное место и, сложив руки, чего-то ждут. У нас все чего-то ждут».
Нечто похожее происходит сейчас в обществоведении, и есть опасность надолго задержаться на созерцании одних «оторванных мест».
Что касается второй истины, то она является своего рода указанием на необходимость соблюдения меры в определении достигнутого этапа развития и его возможностей, которые недопустимо ни завышать, ни занижать. Было бы наивно полагать, что, раз переступив порог социалистического общества, люди сразу начнут адекватно отражать в своем сознании действительность, не преувеличивая и не приуменьшая достигнутого. Однако вряд ли кто предвидел, что десятилетиями официальная пропаганда, а за ней и общественные науки будут двигаться по линии преувеличения. В закрывании глаз на неприглядные стороны действительности виделась даже какая-то доблесть, знак верного служения. Между тем весь опыт КПСС и Советского государства настойчиво диктовал одну и ту же мысль: социализм насущно нуждается в точном систематическом самоанализе и всестороннем самопознании уже хотя бы потому, что это — научно организуемое общество. Именно самоанализ и самопознание позволяют как воздерживаться от субъективистской постановки не выполнимых пока задач, так и проявлять должную смелость в тех вопросах, решение которых объективно назрело. Иначе неизбежен либо авантюризм, либо застой.
«Наша сила, — писал Ленин, — полная ясность и трезвость учета всех наличных классовых величин, и русских, и международных, а затем проистекающая отсюда железная энергия, твердость, решительность и беззаветность борьбы» [43, 240—241].
Теоретическая картина социализма, созданная Марксом, Энгельсом, Лениным предполагала в качестве в основном завершенных ряд социально-экономических процессов, прежде всего распространение машинного производства и связанное с этим повышение культурно-технического уровня работников, вытеснение ручного, неквалифицированного труда, процесс технико-технологического и организационно-технического обобществления экономики, ее кооперации и централизации, накапливание в ней элементов научной планомерности.
При таких предпосылках период пролетарской диктатуры представлялся по необходимости кратковременным, ибо ее главной и в сущности единственной акцией было бы обращение средств производства из частной собственности в общенародное достояние (разумеется, наряду с вытекающей из этой меры организацией всенародного учета и контроля за мерой труда и мерой потребления и введением индивидуального распределения продуктов в зависимости от количества и качества вложенного труда).
«Первый акт, в котором государство выступает действительно как представитель всего общества — взятие во владение средств производства от имени общества, — полагал Энгельс, — является в то же время последним самостоятельным актом его как государства» [20,292].
Этот логический подход к вопросу о становлении новой формации выражал закономерность как таковую. При жизни основоположников научного коммунизма и в начальный период деятельности Ленина, до Октября он не мог и не должен был быть иным. Его полностью подтвердила история Советского государства, первого опыта социалистического строительства. Но не во всем с ним совпала в последовательности и сроках преобразований.
Об этом несовпадении много писали и у нас, и за рубежом. Тенденциозное его истолкование стало излюбленным приемом антимарксистской, антиленинской, антикоммунистической пропаганды. Действительно, различие между логическим (научным прогнозом) и историческим (реализацией прогноза) в переходе от капитализма к социализму видно и невооруженным глазом. В теоретическом предвидении, которое, правильно выражая содержание будущих событий, вместе с тем опережает их на десятки лет, многие задачи выглядят подчас существенно иначе, чем потом в жизни. Однако лишь легкомысленные авторы могли бы делать из этого вывод о якобы несоответствии между теорией и практикой научного социализма. Самое общее опровержение этого вывода состоит в том, что теория Маркса — Энгельса — Ленина рассчитана на более длительный (и более содержательный) период движения масс, чем тот, который уже пройден новым строем. Она не занимается нагибанием к себе действительности, — это, как мы хорошо знаем, делалось ее конъюнктурно ограниченными интерпретаторами, — и не ответственна за подобные действия, преследуя другую, противоположную цель — обеспечить простор для самодеятельности творчески-критического, диалектического разума.
В свете этого целесообразно напомнить, что писал Маркс о взаимоотношении логического и исторического применительно к современному ему (как наверняка и всякому другому) обществу.
«...Было бы неосуществимым и ошибочным, — говорилось в экономических рукописях 1857-1858 годов, — трактовать экономические категории в той последовательности, в которой они исторически играли решающую роль. Наоборот, их последовательность определяется тем отношением, в котором они находятся друг к другу в современном буржуазном обществе, причем это отношение прямо противоположно тому, которое представляется естественным или соответствует последовательности исторического развития. Речь идет не о том положении, которое исторически занимают экономические отношения в различных следующих одна за другой формах общества. Еще меньше речь идет о их последовательности «в идее» (Прудон), этом мистифицированном представлении об историческом процессе. Речь идет о том месте, которое они занимают в структуре современного буржуазного общества» [12, 734].
И это относится не только к капитализму. Например, социализму, как он возник и развивался в ряде государств исторически, пришлось решать и те социальные проблемы, снятие которых в сущности является предварительным условием его появления на свет. К ним принадлежат машинизация индустрии и превращение сельскохозяйственного труда в разновидность индустриального, электрификация производства и быта, ликвидация безграмотности и культурная урбанизация, создание густой сети современных коммуникаций и т. п. Логически все это задачи капиталистической формации. Они ею в основном решены в развитых империалистических державах. В то же время в части мира, где к власти пришли трудящиеся и где предреволюционный уровень социально-экономического развитии был ниже, чем на Западе, социализм оказывался вынужденным доделывать то, что не доделал капитализм. Тем самым намного осложняется и расширяется государственная миссия рабочего класса. Эта миссия выходит далеко за рамки предсказанного Энгельсом экономического обобществления средств производства, что отнюдь не означает, что он был неправ. Для индустриальных стран Западной Европы и Северной Америки Энгельсов прогноз сохраняет свою силу, ибо там, вследствие развития государственно-монополистического капитализма, рабочий класс (очевидно, не в «традиционном» понимании, а в том понимании, которое изложено в этой работе) в результате перехода к нему рычагов управления получил бы производственный аппарат, почти уже сложившийся, почти уже приспособленный для руководства обобществленной экономикой. Трудящимся Запада не придется выравнивать резко контрастирующие уровни хозяйственного развития отдельных районов своих стран, изживать в гигантских масштабах технологическую «многоукладность» экономики, тратить годы на преодоление элементарного бескультурья и бытового варварства, противоположности между городом и деревней и др. И история революционных сдвигов здесь будет в основном совпадать с логикой научного предвидения.
Но вернемся от весьма проблематичных суждений о том, как еще будет возникать социализм, к тому, как он возник. Россия находится в таком положении, писал Ленин через пять месяцев после победы Октября, когда целый ряд первоначальных предпосылок перехода от капитализма к социализму имеется налицо.
«С другой стороны, целый ряд подобных предпосылок отсутствует в нашей стране, но может быть заимствован ею сравнительно легко из практического опыта соседних, гораздо более передовых, стран, давно уже поставленных историей и международным общением в тесную связь с Россией» [36,131].
Эта диалектическая зависимость судеб нового строя как от внутренних, так и от внешних условий фиксировалась для страны среднеразвитого капитализма, частично вступившего в свою монополистическую стадию, для страны с самой высокой в мире концентрацией наемного труда на крупных промышленных предприятиях и весьма интенсивным рабочим движением, усвоившим опыт классовой борьбы западноевропейского пролетариата и накопившим свой собственный. Неверно, что «в начальный период революции Ленин исходил из того, что капитализм уже создал для социализма все необходимые экономические формы, нужно только наполнить их новым, социалистическим содержанием» (И. Шмелев). Подобных абсурдных заявлений у Ленина не могло быть. В России необходимых экономических форм как раз не хватало. Наполнять социалистическим содержанием было подчас нечего, — не соединять же его, к примеру, с патриархальным земледелием, — и в этом состояла одна из величайших трудностей революции. Не случайно Ленин говорил в ряде случаев о завоевании сначала политических предпосылок социализма, о движении к нему сперва в надстроечной сфере, а потом уже, опираясь на эти достижения, о подведении под них материально-технической базы и экономического базиса. Дело, как уже отмечалось, не могло обойтись без «перевернутой» диалектики, столь не нравящейся А. Бутенко и Л. Водопьяновой, а другой история не предложила.
Поскольку разговор у нас ведется вокруг закона соответствия производственных отношений характеру и уровню производительных сил и механизма его действия, возникает вопрос: имелось ли после Ленина в партии и советском обществоведении надлежащее понимание этих сюжетов или тут царила приблизительность? К сожалению, подчас более верным представляется последнее. Конечно, И. Сталин и сплотившееся вокруг него большинство Политбюро зарекомендовали себя как проводники форсированной индустриализации по сути «любой ценой» и это обеспечило громадный успех. О научно-техническом прогрессе и его роли в строительстве социализма и коммунизма немало было говорено также Н. Хрущевым, Л. Брежневым и даже М. Горбачевым, но все это шло теперь на уровне интуиции или традиции, без проникновения в коренной смысл проблемы, без точного знания и расчета. Так, в 70-е годы под брежневской эгидой были произведены закупки западной техники на миллиарды рублей. Не говоря уже о том, что она оказывалась устаревшей и устаревала еще больше при наших темпах установки и монтажа оборудования, эта техника, будучи частичным неорганичным вкраплением, не вписывалась в наличный неостановимый производственный процесс и не давала ожидаемого эффекта. Технико-технологическая «многоукладность» только усиливалась. Над умами продолжал абстрактно тяготеть сталинский лозунг начала 30-х годов «Техника решает все», тогда как надо было исходить из лозунга «Технология решает все». Иначе говоря, не уделялось должного внимания комплексу производственно-технических отношений, которые признавались как бы несуществующими, что и предрешало неуспех.
И. Сталин и его ближайшие преемники никогда не обращались к ленинской концепции формального обобществления и обобществления на деле. Правда, нечто вроде напоминания о ней в порядке исключения встречалось в речах, но исключение не стало правилом. Так, в 1933 году Сталин выступил против переоценки и превращения, по его выражению, в икону колхозов как социалистической формы хозяйствования, которой якобы заранее «обеспечены правильное ведение дела колхозов, правильное планирование колхозного хозяйства, превращение колхозов в образцовые социалистические хозяйства».
«Колхоз, — разъяснял И. Сталин, — есть социалистическая форма хозяйственной организации так же, как Советы являются социалистической формой политической организации. Как колхозы, так и Советы являются величайшим завоеванием нашей революции, величайшим завоеванием рабочего класса. Но колхозы и Советы представляют лишь форму организации, правда, социалистическую, но все же форму организации. Все зависит от того, какое содержание будет влито в эту форму».
Делая ударение на политической стороне дела, Сталин говорил, что «с точки зрения ленинизма колхозы, как и Советы, взятые как форма организации, есть оружие, и только оружие. Это оружие можно при известных условиях направить против революции». Факты такого волюнтаристского применения формального обобществления и в экономическом, и в политическом отношениях имели место и в нашей стране, и, например, в маоистском Китае. Длительное манипулирование формами общественной собственности без наполнения их соответствующим индустриально-культурным содержанием, манипулирование лишь с целью аккумуляции материальных ресурсов в интересах, подчас идущих вразрез с интересами народа и социализма, — таким показало себя мелкобуржуазно-бюрократическое применение социалистической организации хозяйства. Нечто подобное произошло в 1989-1990 годах и с Советами, в которых резко сократилась доля представителей трудовых коллективов, работников производительного труда, и Советы тем самым стали вырождаться в некое подобие буржуазных муниципалитетов. Последствия не заставили себя долго ждать. С изменением социального состава формально те же органы власти, составлявшие органическую составную часть проклинаемой «демократами» административно-командной системы, попав в их руки, принялись разрушать социалистический уклад. Это вскоре печально кончилось и для самих Советов. Исчерпав себя как орудие реставрации капитализма, они пали от рук собственного выкидыша — пресловутой «президентской вертикали».
Другое высказывание И. Сталина в том же духе относится к концу 30-х годов. Выдвинув на XVI11 съезде ВКП(б) (март 1939) положение о двух фазах развития Советского социалистического государства: «от Октябрьской революции до ликвидации эксплуататорских классов» и «от ликвидации капиталистических элементов города и деревни до полной победы социалистической системы хозяйства и принятия новой Конституции (1936 года. — Р.К.)», — докладчик заявил, что во второй фазе «сохранилась и получила полное развитие функция хозяйственно-организаторской и культурно-воспитательной работы государственных органов. Теперь основная задача нашего государства внутри страны состоит в мирной хозяйственно-организаторской и культурно-воспитательной работе». Эта формулировка позволяет думать, что автор не упускал из виду наряду с общественной собственностью комплекс технико-технологических производственных отношений, но что ему не отводилось должного, я бы сказал, исторического места в судьбах социализма, можно утверждать почти наверняка. Замена дробно-точечной, ремесленной технологии ручного труда слитной, комплексной, объективно питающей коллективизм технологией труда машинного осуществлялась неоперативно. Партийные и хозяйственные кадры недооценивали или же, в большинстве своем, не понимали значение этого процесса. Технологическая детерминация социалистического и коммунистического строительства была приторможена, что в конце концов и сказалось на положении дел в обществе в целом. Первое «К», видя халатное отношение к себе, зло пошутило...
Задержав производство в состоянии полуформального обобществления, послесталинское руководство по сути лишило коммунизм перспективы. Оно заморозило новый строй «в его первой форме», когда он «является лишь обобщением и завершением» отношения частной собственности.
В этом состоянии, писал Маркс, «господство вещественной собственности над ним так велико, что он стремится уничтожить все то, чем, на началах частной собственности, не могут обладать все; он хочет насильственно абстрагироваться от таланта и т.д. Непосредственное физическое обладание представляется ему единственной целью жизни и существования; категория рабочего не отменяется, а распространяется на всех людей; отношение частной собственности остается отношением всего общества к миру вещей...» (42, 114].
Понятно поэтому, сколь затруднительна при такой неразвитости участь коллективизма и коммунистического бескорыстия и сколь легка разлагающая «миссия» коррупции и вещизма. Приняв многие зародышевые и переходные формы за уже готовые, а смешанные формы — за «чистые», мы создали ситуацию социального «иммунодефицита», опасность возврата страны к дореволюционным порядкам. Встал вопрос: как исправить эту ошибку и больше ее не повторять?..
3. Ленин: финальная модель?
Ленин боролся за максимальное использование экономических возможностей всех хозяйственных укладов, всех форм связи между ними — непосредственно-общественных, продуктообмена, товарообмена, но считать его сторонником многоукладности нельзя. Ленин не скрывал своих предпочтений и научно их аргументировал. Среди этих предпочтений на первом месте, как явствует из статьи «О кооперации», ставились, конечно, предприятия «последовательно социалистического типа (и средства производства принадлежат государству, и земля, на которой стоит предприятие, и все предприятие в целом)...». С ними соединялись в экономическом строе нэповской России частнокапиталистические предприятия, «но не иначе, как на общественной земле, и не иначе, как под контролем государственной власти, принадлежащей рабочему классу...». Таков был второй тип. Третьим типом предприятий, «которые раньше не имели самостоятельности с точки зрения принципиального значения», Ленин называл предприятия кооперативные. Эти предприятия при нэпе «отличаются от предприятий частнокапиталистических, как предприятия коллективные, но не отличаются от предприятий социалистических, если они основаны на земле, при средствах производства, принадлежащих государству, т. е. рабочему классу». Подобная укладная структура, с неизбежными и существенными коррективами, воспроизводилась и в условиях «перестройки».
Коррективы, о которых здесь идет речь, в основном относились ко второму виду предприятий. Очень нечеткой до августа 1991 года представлялась позиция властей в отношении частнокапиталистического сектора. Тут действовали пока мотивы: и хочется, и колется, и мама не велит. За этим виделись и распространившаяся вширь и ввысь мелкобуржуазность, и слабость теоретической подготовки, и плохое знание своего народа и страны — характерные черты горбачевщины. Но зато получал развитие госкапиталистический сектор, основанный на сотрудничестве советских хозяйственных организаций с различными зарубежными фирмами. Так на доавгустовской стадии развития, когда активное поощрение получало кооперативное движение, изображали «коренную перемену всей точки зрения нашей на социализм. Эта коренная перемена состоит в том, — пояснял Ленин, — что раньше мы центр тяжести клали и должны были класть на политическую борьбу, революцию, завоевание власти и т. д. Теперь же центр тяжести меняется до того, что переносится на мирную организационную «культурную» работу» [45, 374, 375, 376]. Это диктовалось Лениным в январе 1923 года, а Сталин заговорит о превращении мирной хозяйственно-организаторской и культурно-воспитательной работы в основную задачу нашего государства внутри страны через 16 лет, в 1939-м. Вот одна из ипостасей бюрократического авторитаризма, о которой что-то не писали публицисты. А без ее ликвидации было невозможно органическое решение современных задач. Центр тяжести в области внутренних, а теперь во многом и внешних экономических отношений должен был быть перенесен, как раз по Ленину, на культурничество в самом широком смысле этого слова, имея в виду формирование и обшей, и технологической, и планово-хозрасчетной культуры.
О коренной перемене «всей точки зрения нашей на социализм» говорилось у нас с легкой руки А. Бутенко, во всех мыслимых и немыслимых вариациях более двадцати лет. Пускались в ход всевозможные толкования, кроме разве одного — ленинского. Неброская прозаическая расшифровка этой «перемены» самим Владимиром Ильичом, на которой я настаивал еще в коллективной монографии «Современный правый ревизионизм» 1973 года, явно не устраивала авторов, жаждавших «новых», не похожих на прежние, концепций. Завораживали слова «коренная перемена» и «вся» точка зрения. Модны были разговоры о том, что мы до сих пор «не знаем», что такое социализм. Что за этим стояло — теоретическое кокетство, желание занять резервно-перестраховочную позицию или же намерение под ярлыком «социализм» протащить на идеологический рынок нечто качественно другое, — решить трудно, но наличие тут определенной дозы притворства не вызывало сомнений. Впрочем, с 1987 года кое-кто уже перестал притворяться. Появились сторонники «коренной перемены» в смысле восстановления капиталистических порядков, оголтелого антикоммунизма. В этом случае «тонкие» разговоры о перемене всего лишь точки зрения трансформировались в беспардонные атаки на ленинизм.
Не следует гоняться за длинными и академически выверенными определениями, тем более, что на поверку они оказываются, как правило, бесплодными. Маркс предпочитал этому занятию изложение сути дела. Он называл социализмом открытие новой культурной эпохи, товарищеский способ производства, органической переходной формой к которому является способ производства капиталистический [Вестник Московского университета. Серия 7. Философия. 1989. № 3. С. 24]. В силу имманентно присущих последнему обобществительных процессов (которые вызваны к жизни эксплуататорской сущностью капитализма и на нее наслаиваются, но призваны ее в конце концов задушить и растворить) им может быть только союз свободных людей, работающих общими средствами производства и планомерно расходующих свои индивидуальные рабочие силы как одну общественную рабочую силу.
В этой ассоциации равных, пишет Маркс, «общественно-планомерное распределение» рабочего времени играет двоякую роль. С одной стороны, оно «устанавливает надлежащее отношение между различными трудовыми функциями и различными потребностями. С другой стороны, рабочее время служит вместе с тем мерой индивидуального участия производителей в совокупном труде, а следовательно, и в индивидуально потребляемой части всего продукта».
Некоторых исследователей сердит то, что при этом, по Марксу, общественные отношения «остаются здесь прозрачно ясными как в производстве, так и в распределении», и ссылаются на сохранение будто бы затемняющих их товарно-денежных связей. Однако соответствующее место в «Капитале» требует более внимательного прочтения. Маркс, по-видимому, не случайно не говорит там обо всех общественных отношениях сразу, а ограничивает объект рассмотрения, указывая на «общественные отношения людей к их труду и продуктам их труда...» [23, 88, 89]. Он не берет на себя ответственность за расписывание весьма проблематичных подробностей нового строя. И вряд ли следует хлопотать по поводу изысканий каких-то еще признаков социалистичности и социализма.
В. Киселев писал, что «вплоть до начала социалистического строительства в России Ленин разделял взгляды Маркса и Энгельса на социализм как не товарный и самоуправляющийся». Смею утверждать, что Ленин и после того разделял взгляды Маркса и Энгельса, поскольку состояние социализма как нетоварного и самоуправляющегося никогда не изображалось им, как и его предшественниками, в качестве ближайшего результата революции. Оно мыслилось, наоборот, лишь в отдаленной перспективе долгого и зигзагообразного пути. На этом пути Ленин предвидел и гигантские изломы, и сложные повороты, и убыстрения темпа, и задержки, «периоды шагов назад, отступлений, временных поражений или когда нас история или неприятель отбросит назад» и призывал партию в перипетиях борьбы «не затеряться и сохранить общую перспективу, чтобы видеть красную нить, связывающую все развитие капитализма и всю дорогу к социализму,., чтобы видеть начало, продолжение и конец...» [36, 47]. А это без неслабеющего ощущения кровной преемственной связи с основоположниками марксизма невозможно.
«Введя в модель социализма закон стоимости и государство, — продолжал В. Киселев, — Ленин проделал эволюцию от оценки нэпа как «шага назад» к признанию, что это «всерьез и надолго»». (Кстати, напомню, что формулу «всерьез и надолго» первым высказал не Ленин, а В. Осинский [43,329—330,340].) Предложение вроде бы не такое уж и длинное — всего 24 слова, а сколько в нем передержек. Во-первых, «ввести» в модель общества то, что ему не органично, вообще невозможно. Как бы вы ни старались, вы не введете, например, товарно-денежные отношения там, где нечем и некому торговать. Во-вторых, и закон стоимости, и государство в модель социализма «ввел» не Ленин, а Маркс. В «Капитале» мы находим высказывания о значимости определения стоимости в будущем обществе (См.: глава VI, § 5), в «Критике Готской программы» — рассуждение о государственности переходного периода и ее превращениях в будущем коммунистическом обществе. В-третьих, никакой «эволюции» вроде той, которую В. Киселев приписывает Ленину, «от оценки нэпа как «шага назад» к признанию, что это «всерьез и надолго»», он не проделывал. Этой «эволюции» просто не было. Была другая эволюция, с противоположным знаком, что документально доказано в предыдущей главе. Ленин эволюционировал, но не от нэпа как «шага назад» к нэпу «всерьез и надолго», а от нэпа «всерьез и надолго», может быть, на десятилетия, к нэпу «всерьез и надолго, но, конечно, не навсегда», к нэпу как «детали развития... с точки зрения мировой истории...» В. Киселеву полезно напомнить как решение XI съезда РКП(б) о приостановке отступления и переходе к перегруппировке сил для подготовки наступления на частнохозяйственный капитал, — о нем ученый не может молчать, а В. Киселев молчал, — так и формулу из последней ленинской речи: «...Сначала отступить, а потом разбежаться и сильнее прыгнуть вперед». Может быть, опуская перечисленные «подробности», В. Киселев действовал по принципу: «нагибать к себе действительность», так нагибать. Но для этого учение Ленина о социализме, пожалуй, самый неподходящий объект. Если бы Гулливер наших дней имел возможность посетить вслед за своим предком остров Глаббдобдриб и повторить его эксперимент, вызвав на этот раз духов тех, кто цитируется в данном параграфе, В. Киселеву пришлось бы намного труднее, чем Рамусу и Скоту.
Итак, укладная структура российской экономики согласно модели, представленной в статье Ленина «О кооперации», выглядит следующим образом:
общенародный сектор — государственные промышленные и сельскохозяйственные предприятия, транспорт и связь, торговля и сфера обслуживания;
госкапиталистический сектор, который «не пошел» и был фактически свернут еще в 20-х годах;
кооперативный сектор — многочисленные виды снабженческо-сбытовой, заготовительной, потребительской и производственной кооперации. Еще в начале 50-х годов этот сектор был представлен сельхозартелями, предприятиями пром- и учреждениями потребкооперации; к концу того же десятилетия и в дальнейшем остались колхозы и потребительские общества.
Характерно, что в статье «О кооперации» Ленин не включает в эту структуру индивидуальное мелкотоварное хозяйство. В его модели такое хозяйство представляется как объект и широкое поле для кооперирования. Полемизируя с теми, для кого этот социально-экономический феномен будто бы закрепляется практикой нэпа, Владимир Ильич подчеркивает:
«В нэпе мы сделали уступку крестьянину, как торговцу, принципу частной торговли; именно из этого, — делает он внешне парадоксальный, но глубоко органичный диалектический вывод, — вытекает (обратно тому, что думают) гигантское значение кооперации» [45, 370].
Вот так: «обратно тому, что думают». В том числе обратно тому, что кое-кто думает сейчас. «Требуется, — утверждал Л. Баткин, — превращение того, что деликатно называют «семейным подрядом», в мощный и напрямую — через долгосрочную экономическую аренду, без содействия колхозно-совхозных и прочих контор — связанный продналогом и банковскими кредитами с государством мелко-крестьянский сектор экономики». Прав Л. Баткин или неправ, может показать только специальный высококомпетентный анализ. Возможно, что с точки зрения текущих хозяйственных нужд, например, восполнения нехватки продовольствия и сельхозсырья, возрождение на некоторый срок такого сектора выглядит не только приемлемым, но и необходимым. Но к ленинской модели социализма это не будет иметь никакого отношения. В ней такой сектор не предусмотрен, и апеллировать к авторитету Владимира Ильича в данном случае недопустимо. Во всяком случае, указанная мера не способствовала усилению социалистичности нашей экономики и увеличила в элементы переходности.
Ленину одно время упорно приписывалась концепция фермерского пути сельского хозяйства, но тщетно было бы искать подтверждение этого предположения в его трудах. Можно, конечно, ссылаться на предварительный черновой набросок тезисов насчет крестьян (февраль 1921), где одобряется принцип сообразования размера продналога со старательностью земледельца в смысле понижения процента налога при ее повышении [42, 333], и на провозглашенную X съездом РКП (б) линию максимальной поддержки старательного хозяина. Но не надо путать политическую тактику с политической стратегией. Да, Ленин тщательно взвешивает, на какой хозяйственный тип сделать ставку при нэпе — на кулака или на середняка.
«Теперь гвоздем, оселком становится (стало) увеличение продуктов.., — пишет он, набрасывая план брошюры «О продовольственном налоге» — Inde (следовательно (лат.). — Ред.): «ставка» на середняка в земледелии».
Его внимание привлекает «старательный крестьянин как «центральная фигура» нашего хозяйственного подъема». Но был бы странен тот, кто усмотрел бы в этом некий крестьянский уклон и тем более «смену лошадей».
«Союз рабочих с крестьянством = а и w Советской власти. «Необходимое и достаточное» условие ее прочности», — отмечает Ленин. Военно-политический союз этих классов «против Деникина и К"» — это не то же, что их союз в экономическом строительстве. Первый соответствует буржуазной революции, второй соответствует революции социалистической.
Мысль Ленина никогда не застывает на месте. Она все время движется, рассматривая предметы, явления, процессы в их постоянной изменчивости, их объективной устремленности, в бесконечном разматывании ленты прошлого, настоящего и будущего. Отсюда естественный для Ленина, типичнейший для него вопрос, от чего к чему мы переходим, и о средствах, путях и темпах этого перехода. Нэп, как и все прочее, всецело подчиняется этой логике.
Согласно ей продналог «является только переходною мерою... Прийти мы хотим и должны прийти к тому, чтобы крестьянские продукты поступали рабочему государству не как излишки по разверстке, и не как налог, а поступали бы в обмен на доставляемые крестьянству все необходимые ему продукты, перевозимые средствами транспорта. На этом основании хозяйство страны, перешедшей к социализму, может быть построено. Если крестьянское хозяйство может развиваться дальше, необходимо прочно обеспечить и дальнейший переход, а дальнейший переход неминуемо состоит в том, чтобы наименее выгодное и наиболее отсталое, мелкое, обособленное крестьянское хозяйство, постепенно объединяясь, сорганизовало общественное, крупное земледельческое хозяйство».
Крестьянство уже в силу распыленности его хозяйственной базы, узости интересов, отсутствия политического опыта, бескультурья все время нуждалось в тех или иных внешних факторах экономического или политического объединения в общенациональном масштабе. Ленин неоднократно поднимал и освещал эту тему. А объединить крестьянство, тем самым руководя им, в современном обществе могут либо буржуазия, либо пролетариат. Ни о какой «третьей» силе мечтать не приходится. Установление и укрепление рабоче-крестьянского союза — это не что иное, как борьба пролетариата против буржуазии, за высвобождение из-под ее влияния громадных масс трудящегося населения, за создание фронта народных сил, направленных на организацию общественного производства, всей общественной жизни по-новому.
«Что это значит — руководить крестьянством? — размышлял Ленин на X Всероссийской конференции РКП(б). — Это значит... вести линию на уничтожение классов, а не на мелкого производителя. Если бы мы с этой линии, коренной и основной, сбились, тогда мы перестали бы быть социалистами и попали бы в лагерь тех мелких буржуа, в лагерь эсеров и меньшевиков, которые являются сейчас самыми злейшими врагами пролетариата».
Ленин привел далее высказывание умнейшего представителя эмигрантской контрреволюции, бывшего вождя кадетской партии П. Милюкова о том, что в России теперь на арене политической борьбы «честь и место» только социалистической партии типа эсеровской или меньшевистской, и заключил следующими словами:
«Он (П. Милюков. — Р.К.) учитывает ступени политического развития совершенно трезво и говорит, что для перехода назад к капитализму необходимая ступенька — эсеровщина и меньшевизм. Буржуазии такая ступенька нужна, а кто этого не понимает, тот глупец».
В правоте Ленина мы наглядно убедились, пройдя такие «ступеньки», как хрущевизм, брежневщина, горбачевщина, ельцинизм... Давно пора отрешиться от телячьей доверчивости и взяться за ум!
Внимательный читатель сразу же заметит, что в одном и том же 1921 году, под флагом одной и той же политики Ленин обосновывает две линии: а) линию максимальной поддержки старательного хозяина, крестьянина-середняка, б) линию не на мелкого производителя, а на уничтожение классов. Поскольку мелкий производитель и есть прежде всего середняк, людям с плоскостным, формально-логическим мышлением может показаться, что допущено «ужасное» несоответствие. С их точки зрения, должна быть либо одна линия, либо другая — «иного не дано»; либо мелкий производитель должен остаться вечно, либо экстренными мерами надо постараться «соорудить» бесклассовое общество; из формальной логики получаются либо ультраправые взгляды, либо ультралевые. Беда этих людей состоит в том, что они не стараются даже полюбопытствовать насчет того, что две указанные линии имеют различные пространственно-временные параметры, — у первой они намного скромнее, чем у второй. В силу этого возможно совмещение, соединение противоположностей, интеграция различных процессов, в ходе которых претерпевают существенное изменение их компоненты, особенно мелкий производитель, который становится кооператором. «Иное», третье дано! В ходе социалистического строительства, если оно ведется последовательно, должно быть достигнуто такое положение, когда «в обществе останутся только производители-работники, не будет рабочих и крестьян». Союз рабочего класса и крестьянства, эта альфа и омега Советской власти, не остается неподвижным. У него свой вектор развития. Соглашение, которое служит содержанием этого союза, может быть истолковано по-разному, и многие противники социализма даже признают его необходимость. Но не любой вариант соглашения принимается рабочим классом. С его точки зрения соглашение лишь тогда является допустимым, правильным и приемлемым, когда оно является одной из мер, направленных на уничтожение классов. Эта направленность — главный критерий правильных отношений между рабочим классом и крестьянством на длительный срок. Отказ от нее означает отказ от того, что было завещано Лениным партии.
На первый взгляд, формирование бесклассового общества — задача, сравнительно далекая от нэповской действительности. Однако Ленин из выступления в выступление освещает ее с разных сторон. Особенно яркий анализ дается им вскоре после окончания X съезда РКП(б), на Всероссийском съезде транспортных рабочих 27 марта 1921 года. Увидев в зале плакат «Царству рабочих и крестьян не будет конца», Ленин характеризует его как свидетельство недоразумений и неправильного понимания азбучных и основных вещей.
«В самом деле, — подчеркивает он, — ежели бы царству рабочих и крестьян не было конца, то это означало бы, что никогда не будет социализма, ибо социализм означает уничтожение классов, а пока остаются рабочие и крестьяне, до тех пор остаются разные классы, и, следовательно, не может быть полного социализма» (43, 81, 379, 382, 381, 148, 318, 99, 301-302, 130].
Что мешает восстановить этот обобщающий ленинский критерий социалистичности общества в наши дни?
От доклада (в чем автор вряд ли повинен) И. Сталина «О проекте Конституции Союза ССР» (ноябрь 1936), ведет свое начало версия социализма как общества, в котором нет уже эксплуататорских классов, но сохранились трудящиеся классы — рабочие и крестьяне, а также социальный слой интеллигенции. Нельзя квалифицировать эту версию, в случае закрепления ее на десятилетия, иначе, как отход от ленинизма. «Социализм тоже классовое, а не бесклассовое общество; бесклассовое же общество — утопия», — твердили некоторые обществоведы. Это один из самых заскорузлых предрассудков, всегда вольно или невольно сохранявших лазейку для правого оппортунизма. Не буду спорить о российском обществе, как оно структурируется сегодня. Для всестороннего научного суждения о его облике еще нет достаточно достоверного статистического материала. 88,1% рабочих и служащих (58,8% рабочих), 11,7% колхозников, 0,2% «индивидуалов», служителей культа и пр., около 36,5 миллиона специалистов с высшим и средним специальным образованием, 19% сельскохозяйственного населения, 66% городского и 34% сельского — таковы данные на конец 80-х годов, рассчитанные на базе методики, не имевшей добротного социологического обоснования. Зачисление маникюрш и гардеробщиц в рабочие и, наоборот, невключение в их состав непосредственных организаторов технологического процесса — инженеров и творцов новой техники — конструкторов выглядит в наши дни как анахронизм. В стране повсеместно распространялся такой, связанный с повышенной социальной мобильностью процесс, как «социальная диффузия», образование социально смешанных семей, членами которых являются представители различных классов и социальных групп. Несомненно, если бы мы имели надежный социологический инструментарий и с его помощью непредвзято вникли в содержание социальных изменений, то обнаружили бы признаки как формирования бесклассового общества, так и одновременно настораживающей дифференциации, не совместимой с целями его построения. Но, повторяю, я говорю не о настоящем. Почему для ближайшего и даже отдаленного будущего мы, по сути, цеплялись за то, что сказано Сталиным более полувека назад, и изменяли диалектике?
Оригинальные подчас слышались аргументы. «Мне, например, наличие в обществе рабочих и крестьян с их специфическими интересами ничуть не мешает, — писал А. Нуйкин. — Цель уничтожения между ними различий тоже меня не «греет»». Так во вроде бы научном тексте возникла новая составляющая — капризно выраженная потребность в средстве для «сугрева»...
Где «греться» и чем — это, очевидно, сугубо личное дело каждого. По публикациям А. Нуйкина известно, что пылкость чувств в нем вызывала, к примеру, мысль о нажитых хорошеньких «состояниях» и об их передаче потомкам, но оставляла холодно-безразличным идея социального равенства. Не потому ли он не ощущал потепления своей среды обитания, когда при нем заговаривали об уничтожении классовых различий, что социальное равенство марксизм связывает именно с этим?
Но А. Нуйкин не один на свете. В стране десятки миллионов людей труда выступали против бессовестной уравниловки и ее второго «я» — нахальных нетрудовых доходов. Люди жаждали социальной справедливости, а значит социального равенства, которое, будучи основано на проявлении каждым своей квалификации, трудоспособности и таланта, не имеет ничего общего с нивелировкой личности. Они в большинстве своем не заглядывали в чужой кошелек, но остро чувствовали чужую руку в своем кармане. Что тут предосудительного? Пусть кто хочет, остается с засушенной сталинской цитатой, — мы же убеждены, что преодоление классовой дифференциации вытекает и из ленинского учения, и из глубин народной жизни, хотя оно, может быть, и не устраивает чей-то изысканный вкус.
«Задача социализма, — по Ленину 1921 года, — состоит в том, чтобы уничтожить классы» [44, 39]. Она «не грела» публициста по одной из двух причин: либо потому, что уже была решена, и в таком случае нужны серьезные фактические доказательства этого; либо потому, что ему виделся некий другой «социализм», строй, называвшийся так пока условно и представлявший собой новацию, требующую всестороннего теоретического и политического обоснования. Третьего тут действительно не дано. Впрочем, как знать. Возможно, и «дано», но в таком случае, как говаривал Блок, утрачен «секрет понимания простейшего».
«...Вести крестьянство, вопреки всему, к коммунизму» — эти несколько ленинских слов говорят о многом. Они кратко объясняют, почему в период введения нэпа и объективного усиления экономической и социальной дифференциации населения, как по контрасту, делался упор на проблеме преодоления классовых различий. Могли иначе мыслить коммунист?
4. Нэп и устранение классовых различий. Почему?
Укажем на два мотива. Один из них будет по преимуществу политический, другой — экономический.
Ленин, который тщательно следил за изменением соотношения классовых сил и их взаимоотношений, по завершении гражданской войны констатировал: впервые в истории появилось общество, где устранены эксплуататорские классы — помещики и капиталисты и осталось две не антагонистичных друг другу силы — рабочий класс и стоящая между ним и крупным капиталом мелкая буржуазия, мелкие хозяева и мелкое земледелие. Первая сила составляет меньшинство, но именно ее сознательность, дисциплинированность, собранность, самоотверженность являются залогом успеха революции. Вторая сила составляет громадное большинство, но она способна поддержать социалистическое строительство лишь в качестве ведомой, как союзница первой. «Это — сила колебания», — кратко определил Ленин мелкую буржуазию, крестьянство с точки зрения их политического настроения. Задача пролетариата состоит в том, чтобы не дать им отшатнуться от революции, объединить их организацией, заинтересовать, предоставить широкую возможность проявить полезную самодеятельность и почин.
Отнюдь не идеализируя пролетариат, Ленин не идеализировал и крестьянство. Эгоистические, мелкособственнические, спекулянтские проявления в его среде носили в годы гражданской войны массовый характер. Сплошь и рядом приходилось наблюдать «превращение этой мелкобуржуазной силы в анархический элемент, который выражает свои требования в волнении». Союзничество пролетариата с крестьянством совсем не означало, что они перестали быть двумя разными классами с во многом совпадающими, но не одинаковыми интересами. События начала 1921 года в Кронштадте показали, что на это расхождение интересов стала рассчитывать разгромленная контрреволюция. В условиях кризиса крестьянского хозяйства Советская власть не могла существовать иначе, как апеллируя к этому же хозяйству за помощью, особенно продовольственной, городу и деревне.
В то же время следовало «помнить, что буржуазия старается восстановить крестьянство против рабочих, старается восстановить против них мелкобуржуазную анархическую стихию под лозунгами рабочих, что поведет непосредственно к низвержению диктатуры пролетариата и, значит, к восстановлению капитализма, старой помещичье-капиталистической власти. Тут политическая опасность налицо. Эту дорожку ряд революции проделал самым отчетливым образом, на эту дорожку мы всегда указывали. Эта дорожка перед нами обрисовалась ясно».
О серьезности такого предостережения свидетельствует то, что Ленин считал мелкобуржуазную контрреволюцию в стране, где пролетариат составляет меньшинство, опаснее Деникина, Юденича и Колчака, вместе взятых. Он призывал больше считаться с условиями жизни мелкого крестьянина и тут же указывал на то, что элементы распада или разложения, мелкобуржуазная и анархическая стихия поднимают свою голову. Наша деревня, строя хозяйство на общенародной земле и покончив со своими врагами справа — классом помещиков, говорил Ленин, заметно выровнялась, стала более мелкобуржуазной.
«Это — самостоятельный класс, тот класс, который, после уничтожения, изгнания помещиков и капиталистов, остается единственным классом, способным противостоять пролетариату. И поэтому нелепо писать на плакатах, что царству рабочих и крестьян не будет конца» [43,330,136,138,25-26,24,136].
Необходимо предотвратить возможность такого, чреватого роковыми последствиями, противостояния и заложить основы бесклассового общества.
«Мы должны постараться, — укажет Ленин в последней статье «Лучше меньше, да лучше» (март 1923), — построить государство, в котором рабочие сохранили бы свое руководство над крестьянами, доверие крестьян по отношению к себе и с величайшей экономией изгнали бы из своих общественных отношений всякие следы каких бы то ни было излишеств» [45,404—405].
С кем мы ведем теперь, одержав победу над помещичье-капиталистической реакцией, один из последних и решительных боев? «...С мелкобуржуазной стихией у себя дома». «И вечный бой! Покой нам только снится...» Ленин не позволяет партии расслабляться и размагничиваться, четко указывая, откуда способна грозить опасность, могущая оказаться неожиданной, поскольку крестьянин — это классовый союзник, а не классовый противник рабочего. Диалектическое чутье и на этот раз не подводит Владимира Ильича. В мелкобуржуазной стихии в переходный период он видит главного врага социализма. Мелкий буржуа, имеющий накопления, — таков, по Ленину, экономический тип, характерный как основа спекуляции и частнохозяйственного капитализма. Он прячет и старается нарастить свой капитал, «ни в какой социализм и коммунизм не веря, «отсиживаясь» от пролетарской бури» [43, 140, 206, 240, 208]. И вопрос стоит только так: либо рабочая, народная власть подчинит его своему учету и контролю, либо он скинет эту власть, как опрокидывали революции наполеоны и кавеньяки, произрастающие как раз на мелкособственнической почве.
Ленинская озабоченность усугублялась тем, что в жизни советского общества все более негативно давало себя почувствовать наиболее хитроумное порождение тысячеликой мелкобуржуазности — бюрократизм. Вопреки тому, что сейчас принято писать об этой злокачественной опухоли, связывая ее то с однопартийностью, то с планово-централизованным управлением, то с жаждой власти узурпатора, следует точнее представить точку зрения Владимира Ильича. Он не рассуждал по поводу абстракции отчуждения, «демонизма» непознанных законов истории, всеподавляющего «левиафана» и т.п., чем полны порой довольно остроумные статьи и брошюры о бюрократизме, а клеймил бюрократизм, как он есть. Приход пролетариата, трудящихся к государственному руководству сопровождался появлением потребности в профессиональных управленческих кадрах, способных наладить производство, организацию общественной жизни без эксплуататоров и против них. Ранее угнетенный класс такими кадрами практически не располагал, да и не мог располагать в силу придавленного социального положения в эксплуататорском обществе. Поэтому ему пришлось буквально на ходу учиться государственному делу и прибегать к опыту специалистов по управлению, подготовленных по-буржуазному, преодолевая их саботаж, заинтересовывая их материально, поневоле мирясь с чиновничьими привычками бывших служащих царской администрации, пользуясь услугами других сомнительных элементов при нехватке элементарно грамотных людей. Когда Л. Троцкий говорит о рабочем государстве и о том, что у нас пролетариату-де незачем и не от кого себя защищать, отмечал Ленин во время дискуссии о профсоюзах (декабрь 1920), то это отрыв от действительности.
«Это совершенно неверное теоретически рассуждение. Это переносит нас в область абстракции или идеала, которого мы через 15-20 лет достигнем, но я и в этом не уверен, что достигнем в такой именно срок». На деле «государство у нас рабочее с бюрократическим извращением» [42,208].
Этот печальный ярлык мы должны на него навесить, потому что такова противоречивая реальность переходного периода. Борьба с бюрократизмом, подчеркивал Ленин, — долгий и тяжелый труд. Кто предлагает враз покончить с этим злом, тот демагог. С бюрократизмом придется бороться многие годы, и тут понадобятся сотни мер: поголовная грамотность, поголовная культурность, поголовное участие в органах контроля, всенародное обучение демократии, отработка ее норм, принципов и институтов, сращивание их с образом жизни масс...
Аппарат пролетарского государства как подсобное средство его политики может оказаться служащим «не нашему классу, а Деникину и Колчаку, — говорил Ленин. — Раз политика требует решительной перемены, гибкости, умелого перехода, — руководители должны это понять. Твердый аппарат должен быть годен для всяких маневров. Если же твердость аппарата превращается в закостенелость, мешает поворотам, то борьба неизбежна». Легче всего объяснять эти проявления бюрократизма персональным составом служащих, их происхождением из старорежимного чиновничества и свергнутых привилегированных классов, связанностью прежними привычками, а то и прямой враждебностью новому строю. И это действительно играло свою роль. Однако почему бюрократ вырастает из рабочих и крестьян, из батраков и демократических интеллигентов — вопрос, который не мог не волновать. Служить не нашему классу, то есть переродиться, действовать в противовес классово-историческому предназначению политической системы, направлять пролетарскую государственную машину часто не туда, куда следует, в полной убежденности, что ты прав, — разве это не трагедия для честного человека и коммуниста, разве это не помощь противникам социализма!
По Ленину, «всякая демократия, как всякая вообще политическая надстройка (неизбежная, пока не завершено уничтожение классов, пока не создано бесклассовое общество), служит, в конечном счете, производству и определяется, в конечном счете, производственными отношениями данного общества».
В подобной же связи находится с производственными отношениями и антипод демократии, — но тоже надстройка, — бюрократия и бюрократизм. Правда, применительно к ним принято подчеркивать волевой, субъективный аспект. Но оторваться от экономического базиса не дано никакой, даже самой изощренной олигархии, ни одному, даже самому хитроумному тирану. Они не могут не опираться на достаточно мощные слои людей, которые потворствуют тирании и деспотизму вследствие то ли своей заинтересованности в них, то ли собственной апатии, то ли разобщенности и бессилия. Это нужно всегда помнить, чтобы не впасть в наивно-идеалистический субъективизм.
«Задача борьбы с бюрократизмом в нашей программе поставлена, как работа чрезвычайно длительная, — отметил Ленин на X съезде РКП(б). — Чем раздробленнее крестьянство, тем неизбежнее бюрократизм в центре».
Каковы его экономические корни? Они разные при диктатуре буржуазии и диктатуре пролетариата. В странах развитого капитализма господствующий класс нуждается в бюрократическом аппарате, прежде всего военно-полицейском, судейском и пр., направленном против революционного рабочего движения, против леводемократических и леворадикальных течений.
«У нас, — указывал Ленин, — другой экономический корень бюрократизма: раздробленность, распыленность мелкого производителя, его нищета, некультурность, бездорожье, неграмотность, отсутствие оборота между земледелием и промышленностью, отсутствие связи и взаимодействия между ними» [43, 72,49, 230].
Казалось бы, мы далеко ушли от этого положения, фиксированного в начале 20-х годов, но и теперь испытываем неудобство от сходных явлений. По преимуществу формальное обобществление труда и производства, не ощущающее в себе арматуры коллективистских технико-технологических связей, которые охватывали бы и стягивали все народное хозяйство, испытывает нужду в определенной компенсации, в «костылях» и «протезах», которые восполняли бы его недостатки. Технологическая «многоукладность», неравномерность технической оснащенности, прорывы машинного производства на значительных участках ручным трудом, недоразвитость коммуникаций и инфраструктуры в целом ведут к тому, что управленческая «сбойка» цехов и предприятий, отраслей и регионов оказывается возможной только с помощью сугубо административных усилий. Это особенно характерно для народного хозяйства при формировании и нем ранее отсутствовавших отраслей. Система социалистической экономики при этом является, как удачно выразился философ Р. Орлов, пока еще скорее организованной, чем органической, ассоциация трудящихся — скорее искусст¬венно созданной, чем естественно сложившейся [М., Э. 21,405]. Тем самым образуются условия для приобретения управленческим аппаратом исключительно важного значения, — ведь он обеспечивает единственно реальную связь в системе, — а при задержке процессов обобществлении наделе — и роста бюрократизма.
Мы не пишем историю бюрократизма и не обязаны характеризовать ее этапы, хотя и отметим некоторые их особенности. В 20—40-х годах бюрократические тенденции в государственном, хозяйственном да и партийном аппарате подогревались обстановкой ожидания нападения извне и внутренними идейными схватками, психологическими рецидивами гражданской войны и выискиванием подлинных и мнимых врагов, способствовавшими в той или иной степени милитаризации методов работы и сознания кадров. Во многом иначе дело складывалось с середины 60-х годов, когда после хрущевской «оттепели» и импульсивной управленческой перетряски Л. Брежнев взял курс на умиротворение кадров, на создание обстановки, в которой они могли почувствовать уверенность в работе. Сколько мог продолжаться этот курс? Всего несколько лет. В сущности его морально-политический потенциал был совершенно исчерпан уже к началу 70-х годов. После XXIV съезда КПСС (март-апрель 1971), породившего некоторые надежды, многих партийных работников (и, понятно, не только их) стало преследовать ощущение усиливающейся стагнации, перераставшее в общую подавленность. В то же время для бюрократических элементов создалась парниковая атмосфера, обеспечившая их бурный рост и расцвет. На смену мрачноватому, пуганому, тертому и битому бюрократу сталинской поры явился непуганый, по-своему беззаботный, уверенный в своей защищенности бюрократ брежневского типа. Был ли он лучше предшественника? Маловероятно. Правда, наветы и интриги не заканчивались для его жертв переселением в места, не столь отдаленные, но как профессионал-управленец он был намного слабее, умел меньше и помышлял больше по части радостей жизни, чем служения Отечеству. Именно так мягко оценивал я этот феномен в 1987 — 1988 годах, причем передо мной все время витал веселенький образ М. Горбачева, не раскрывшегося еще в своей страшной пустоте. Помнится, во время теоретической дискуссии, организованной философским факультетом МГУ в июне 1987 года, кто-то из участников даже назвал его «Данко двадцатого века». Как слепо было наше общество! Как легко позволило обвести себя вокруг пальца, наподобие гоголевского городничего, Хлестакову «всех времен и народов»!
Различие между организованной и органической, искусственно созданной и естественно сложившейся системой очень полезно знать при рассмотрении причин бюрократизма в социалистическом обществе. В организованной системе, где еще не сложилось «три К», естественно образующиеся в производстве технико-технологические и организационно-технические стяжки и сухожилия заменяются начальническими импровизациями, телефонно-селекторными импульсами, бумагопотоками, несущими командно-регулирующую информацию, поощрениями и санкциями. В отличие от органической системы, где технологический и организационно-технический комплекс вместе с детерминирующей его техникой в принципе обозрим и сам по себе диктует условия и правила своей регламентации, организованная система в огромной степени зависит от случайных факторов — от уровня управленческой квалификации людей, которые ранее занимались другим делом, от штатных ассигнований, от желания подстраховаться при решении новых задач и т. п. Если в первом случае сравнительно нетрудно опереться на науку, то во втором приходится зачастую действовать без достоверных рекомендаций, полагаться на индивидуальный опыт, искать, пробовать, ошибаться, исправлять ошибки. Это и создает формальную возможность появления управленческих звеньев, тратящих на выполнение общественной функции, для которой они созданы, половину или четверть своей силы, а потом вырождающихся в конторы, которые, по сути, целиком замкнуты на себя. Стоит только такой конторе возникнуть, как ее уже начинает спешно и энергично утверждать и закреплять в системе не замедливший сформироваться корпоративный интерес. Централизм в этом случае только ширма, которой пользуется бюрократия. Научно выверенный централизм при социализме неотделим от выражения общенародного интереса, он не может не быть демократическим. Бюрократизм же связан с корпоративизмом, будь это бывшие однокашники, однополчане, земляки, единоплеменники, сослуживцы, а в наиболее одиозных случаях — семейные кланы, «мафиози», спевшиеся прохвосты и т.п. Его мелкобуржуазную сущность выдает то, что групповой, эгоистический интерес он объявляет всеобщим, в то время как защитниками всеобщего интереса порой оказываются разрозненные одиночки-энтузиасты. В качестве «официального» при этом признается субъективное и частное, частным и субъективным объявляется объективное и общее. В этой обстановке вольготно чувствует себя типаж, описанный еще Феофрастом: «Из всего Гомера он запомнил только один-единственный стих: «Нет в многовластии блага, да будет единый властитель», — и больше ни одного не знает».
Ленин далеко видел, когда говорил: «Самый худший у нас внутренний враг — бюрократ, это коммунист, который сидит на ответственном (а затем и на неответственном) советском посту и который пользуется всеобщим уважением, как человек добросовестный. Он немножко дерет, но зато в рот хмельного не берет. Он не научился бороться с волокитой, он не умеет бороться с ней, он ее прикрывает».
«Ну, вот, опять «двоит», — скажет какой-нибудь внимательный читатель. — То ты согласовывал две линии: с одной стороны, на максимальную поддержку старательного хозяина, с другой — на уничтожение классов, а не на мелкого производителя, — теперь же преподносишь мне мелкобуржуазную стихию и бюрократа как двух худших внутренних врагов. Так какой из них хуже?» Оба, ответил бы я, ибо они едины суть. Почвенный слой, в котором они питают свои корни, один и тот же: дробная, раздерганная, несмыкающаяся, испещренная щелями неподконтрольности технология рутинных способов труда, целые архипелаги которой все еще попадаются в море современного машинного производства, а верхушка обоих — культы разных размеров, или, как сказал один остроумец, «узкий круг ограниченных людей».
Маска надменной ответственности при безответственном поведении, имитация духовности при глубоком бескультурье и безвкусице, игра в личности при собственной безличности — таковы были черты бюрократов брежневской школы. В начале 70-х годов мне пришлось беседовать с партработником из Средней Азии, бывшим помощником Ш. Рашидова, тогда уже работавшим в Москве. Я выразил удивление по поводу писательской плодовитости его прежнего патрона при очевидно огромной занятости на занимаемом посту и получил следующее разъяснение: «Какой писатель! Мне два года пришлось учить его писать без ошибок резолюцию: «Прошу рассмотреть»».
Всего один раз я разговаривал с Л. Брежневым. Дальше обычных дежурных слов: «Рад познакомиться. Мне говорили...» — беседа не пошла. Осталось все же впечатление терпимости и доброты. Но я знал журналистов, которые сочиняли брежневские произведения, творя из этого, в общем-то ординарного человека крупного теоретика, видного стратега, выдающегося писателя, того, кем он в жизни никогда не был. И все время мучил вопрос: почему он принимает это как должное? Широко распространившаяся практика «заавторства» интересовала меня, так сказать, по профессиональной принадлежности. В своем узком кругу литературные ремесленники, подвизавшиеся либо в науке, либо в беллетристике, частенько признавались: «Пишу под псевдонимом...» Называлось громкое имя — то ли академика, то ли политического деятеля, и хотелось спросить: если то, чем они известны широкой публике, сделано другими, то кто же они в действительности? И еще одна мысль стучалась в голову, хотя ее и не хотелось впускать: если без заметных угрызений совести присваиваются плоды чужой интеллектуальной деятельности, то наверное с не меньшей легкостью могут присваиваться блага земные. Щелоковщина и медуновщина, рашидовщина и адыловщина, столичные чудеса вокруг гастронома и цирка с лихвой подтвердили, что не бывает духовного отчуждения без материального, что у них один механизм. Пусть кто-нибудь докажет, что это не эксплуатация народного доверия и что речь не идет о стяжательском перерождении части бюрократии. Тяжба между наследниками из-за миллионов, оставшихся после деятелей, слывших аскетами-скромниками и моралистами, говорит сама за себя. Когда Ленин в «Лучше меньше, да лучше» советовал членам ЦКК «подготовлять себя к работам, которые я не постеснялся бы назвать подготовкой к ловле, не скажу — мошенников, но вроде того» [45, 15, 397], он не мог еще знать, что совет этот окажется столь актуален в 80-е годы. Партия не вернула себе доверия народа, не выкорчевывав целый лес чего-то «вроде того», выросший в застойные времена потому, что перестали обращать должное внимание на бюрократическое извращение народной власти. Извращение, чреватое в запущенном состоянии загниванием, которое по своей социальной природе может быть лишь буржуазным.
Не выдерживают сколько-нибудь придирчивой критики утверждения, будто в условиях, когда так называемые командные высоты в экономике находятся в руках социалистического государства, когда существует общественная собственность на землю, на основные фонды в промышленности и сельском хозяйстве, все формы собственности, даже те, которые иногда считают инородными вкраплениями в систему сложившихся производственных отношений, являются социалистическими. Думающие таким образом не видели среди существующих у нас форм собственности таких, которые можно было бы отнести к капиталистическим; исключение делалось только для «накоплений» подпольных миллионеров.
Да, желание не выносить сор из избы, оказывается, может играть роль и в теоретическом анализе. Но давно сказано: подобно тому, как жить в буржуазном обществе совсем не значит во всем строить свою жизнь по-буржуазному, жить в социалистическом обществе совсем не обязательно означает вести социалистический образ жизни. Указанные, кажущиеся спасительными, командные высоты отнюдь не предопределяли коллективистский режим социальной справедливости во всех звеньях фактически не однородной системы производственных отношений. Разве афера фирмы «Океан» не отталкивалась от тех же командных высот, но осуществлялась ради частной наживы? Или что представляла собой «теневая экономика»? Застенчивый и потому не любящий показывать свое личико общественности, безобидный социалистический уклад? Подпольный бизнес с беспощадной эксплуатацией наемного труда, паразитирование частного предпринимательства на общественной собственности и ее иссушение, спекулятивная сеть, факты сотрудничества преступного мира с милицией, органами правопорядка и т. п. — все это не настраивало на такие благодушно-академические оценки. «Теневая экономика», как правило, орудовала в паре с «серой экономикой», с тщательно скрываемыми привилегиями власть имущих, системой самоснабжения работников торговли и сферы услуг, облепляемых со всех сторон родными и близкими, «нужными» людьми, с практикой, порождавшей наряду с реальным дефицитом еще и дефицит искусственный как источник обогащения. Чем это не очаги мелкобуржуазной и буржуазной стихии и реакции?
Капиталистической собственностью, заявил как-то «академик» Г. Смирнов, можно считать только «накопления» подпольных миллионеров. А их где — в капусте что ли находят? Подобный взгляд был, по меньшей мере, инфантилен. Он мог сформироваться только в начале 30-х годов, из чтения популярных тогда книг, когда молодежь бредила устремленным на мировую революцию Павкой Корчагиным и снисходительно посмеивалась над злоключениями Корейко и Бендера, которым и в самом деле не к чему было приложить свое богатство. Система реального общения и нравственных оценок стала с тех пор существенно другой. Наряду с ростом благосостояния общества, ныне прерванным, исчезновением культа аскетизма и другими признаками прогресса дал себя знать и существенный регресс, богатство возобновило попытки отнять у труда роль высшего авторитета. Миллионеры (еще не в «деревянных» рублях) заводились в теплом и насыщенном бульоне вседозволенности, вырабатывались определенной совокупностью несоциалистических, преступных с точки зрения советской законности экономических отношений, совмещаемых с тем, что принято называть выгодными связями, являлись продуктом среды. Пусть и не хотелось признавать наличие в нашей стране мелкобуржуазности и буржуазности отнюдь не в идеально-умозрительном смысле на восьмом десятилетии Октября, но уйти от этого было нельзя. Перекрестить «порося в карася» и вкушать его в постные дни, конечно, приятно, но выигрывал ли что-нибудь от этого народ, общество? Иллюзиями мы были сыты по горло, и самообман ничего хорошего нам не принес.
Какая тут связь с темой бюрократии? Самая прямая. 70—80-е годы высветили во всей наготе опаснейшее явление. Полупаразитарные элементы из управленческого аппарата стали непосредственно блокироваться с дельцами «теневой экономики». Если первые, имея права и полномочия, чувствовали некоторую стесненность в средствах, то вторым при их финансовых возможностях не хватало участия во власти. И стороны упали друг другу в объятия. Таково порождение застойного периода, находящееся в вопиющем антагонизме с социализмом. Новым при этом явилось то, что щупальца коррупции никогда за все годы Советской власти не проникали в столь сокровенные сферы и никогда последние не выглядели столь недалекими и наивными. Мелкая сошка, сидевшая у дверей главного кабинета и бравшая тысячи, вряд ли задумывалась о том, что прикрывает своей жадностью сомнительные обороты в сотни тысяч, а то и миллионы, что делает невозможным поддержание социалистической законности. Вот в какое политическое чудовище вырастает, казалось бы, бытовой факт тяги безликого чиновника к красивой жизни. «Не слишком ли сильно мы возбуждаем гнев масс?» — спрашивали меня по этому и другим подобным поводам еще в 70-х годах некоторые снисходительные интеллигенты. Ох, уж эти снисходительные! Подлинной демократии, то есть народовластию, надлежит быть доброй, а не добренькой. Честная суровость ей больше к лицу, чем гирлянды либерального красноречия. Доброта не есть всепрощение. Доброта есть способность понять и оценить явление по правде, не карая невольно ошибавшегося или оступившегося, но и не щадя преступления и захребетничества. Иначе как защитить интересы рядового труженика?
Не знаю, в какой мере это согласуется с эволюцией современной вихляющей юридической мысли, но мне кажется весьма привлекательным и современным то, что писал Ленин Д. Курскому 20 февраля 1922 года.
«Мы ничего «частного» не признаем, для нас все в области хозяйства есть публично-правовое, а не частное. Мы допускаем капитализм только государственный, а государство, это — мы... Отсюда — расширить применение государственного вмешательства в «частно-правовые» отношения; расширить право государства отменять «частные» договоры; применять не corpus juris romani (Свод законов римского права (лат.) — Ред.) к «гражданским правоотношениям», а наше революционное правосознание...» [44, 398].
Полагаю, это не противоречит идее социалистического правового государства. Как власть собственного объединения трудящихся оно может позволить себе осуществлять накопление, по форме напоминающее капиталистическое, в интересах всего народа, с целью удовлетворения тех или иных его насущных нужд. Оно может в отдельные периоды (как в годы индустриализации и войны) требовать затянуть потуже пояса, временно ограничиться минимумом, руководствуясь трезвым расчетом на перспективу и разъясняя это массам. Но социалистическое государство не вправе допускать и призвано решительно пресекать капитализм или обогащение чиновников, государственных и любых иных, за его счет, то есть за счет народа, путем снятия «сливок» с занимаемых местечек, путем вымогательства даров за услуги, то есть за выполнение своих обязанностей, путем лишения граждан возможности законно и без помех осуществлять свои права. Ибо социализмом в подобных случаях и не пахнет. Действует же давно известный вульгарный буржуазный чистоган.
Публицисты немало преуспели, описывая пугающий лик командно-административной системы. Особенно большое впечатление производили многочисленные выступления на эту тему Г. Попова. Но система, которую в её сталинском варианте он красочно описывал, не осталась без изменений. С этим вариантом не во всем совпадает модификация брежневского типа. В последней в официальные отношения было вплетено намного больше снисходительности к человеческим слабостям, к потребительству и эгоизму, так сказать, беззакония наоборот. Оно оправдывалось уже не суровостью по отношению к «врагам народа», а, напротив, «гуманизмом» по отношению к любителям поживиться за народный счет. Поэтому исследователям надо двигаться дальше. Одним из направлений этого движения могло бы стать разоблачение блока коррумпированной части бюрократии с остатками мелкобуржуазной стихии, нередко пытавшегося повернуть силу управленческого аппарата против общества. Нужен объективный социологический анализ этого явления, нужны и беллетристические опыты. На мой взгляд, не было более серьезного препятствия на пути совершенствования социализма, не было для него более серьезной угрозы. Ленин это знал и завещал нам быть бдительными. Не могу уяснить, почему Т. Заславская, немало внимания посвятившая вопросам социальной дифференциации советского общества в связи с отношением к «перестройке», тщательно выявлявшая те слои рабочего класса, которые, по ее мнению, не могут играть в ней позитивную роль, отделывалась скороговоркой, когда дело касалось буржуазно-бюрократического клана. То ли он искусно прятал концы в воду, то ли не до конца было выявлено его подлинное лицо. Не потому ли часть нашей интеллигенции, прежде всего академическая, отворачивается от идеи коммунизма для масс в будущем, что уже вкусила «коммунизма» миллионеров и номенклатуры в настоящем и решила удовольствоваться этим?
Теперь несколько слов об экономическом мотиве выдвижения задачи ликвидации классовых различий в условиях нэпа. Он читателю в общем уже известен.
Действительной и единственной базой для упрочения ресурсов, для создания социалистического общества является одна и только одна — крупная промышленность, говорил Ленин на X Всероссийской конференции РКП(б). Без капиталистической крупной фабрики, без высоко поставленной крупной индустрии не может быть и речи о социализме вообще, тем более в крестьянской стране. Мы в России теперь знаем это гораздо лучше, чем прежде, и вместо неопределенной формы восстановления крупной промышленности говорим о точно рассчитанном, конкретном плане электрификации. Ленин обратил внимание на тот нюанс в поведении некоторых работников, что об указанной задаче в связи с установлением продналога они стали высказываться в отвлеченных выражениях. Ему лично доводилось слышать подобного рода заявления и отвечать на них только пожатием плеч. «Допустить, чтобы когда-либо мы могли об этой цели забыть, — подчеркивал Владимир Ильич, — это, конечно, совершенно смешно и нелепо. Тут вопрос только в том, как могли родиться такие сомнения и недоумения у товарищей, как они могли подумать, что эта основная, главная задача, без которой материальный производственный базис социализма невозможен, что эта задача у нас отошла на второй план». То, что сначала приходилось восстанавливать мелкую промышленность, свидетельствовало только об одном: без этого невозможно было приступить к восстановлению крупной. Никакой смены приоритетов это не означало.
Ленин квалифицировал как проявление мелкобуржуазной идеологии, остатков цеховых, неклассовых, профессионалистских предрассудков рабочих настроение части из них принять участие в частном торговом обороте, присоединиться к крестьянам, которым дали поблажку, предоставив возможность торговать.
«Главной материальной базой для развития классового пролетарского самосознания является крупная промышленность, когда рабочий видит работающие фабрики, когда он ежедневно ощущает ту силу, которая действительно сможет уничтожить классы» [43, 305—306, 308], — утверждал он.
Важно, чтобы материальная производственная база не ушла из-под ног у рабочих, чтобы ими не овладело состояние неуравновешенности, неопределенности, отчаяния, безверия. Следовало обеспечить непрерывное, хотя бы и медленное восстановление крупной промышленности с тем, чтобы удержать рабочий класс в системе технико-технологических и организационно-технических отношений машинного производства, в системе общественной собственности, единственно делающих его классом-коллективистом. Нельзя было допустить, чтобы этот класс стал поставщиком сырого человеческого материала, который пополняет мелкобуржуазную, частнособственническую стихию, расшатывающую и подмывающую им же созданные устои социалистической организованности.
Мы далеко не все поймем в ленинизме, если будем игнорировать его органическую составную часть — учение о союзах победившего пролетариата. Надежда на скорое налаживание конструктивного братского сотрудничества с приходящими к власти в условиях развертывающейся мировой революции национальными отрядами международного рабочего движения была важнейшим компонентом послеоктябрьского политического курса партии. Однако расчеты непосредственно на этот союз после поражения революций в Венгрии и Германии пришлось временно сузить политико-идеологическими рамками Коминтерна и изменить стратегический курс.
Нэп явился развитием военно-политического союза рабочего класса с крестьянством в союз экономический, плодотворный по своим хозяйственным результатам и вместе с тем противоречивый. Пролетариат с его антикапиталистической тенденцией мог рассчитывать на поддержку крестьянина как труженика, но мог ожидать с его стороны и выбросов частнособственнической активности, химического выделения капиталистических элементов. Тип организации мелкотоварного производства, раздробленного и стягиваемого в относительно единое целое лишь через рынок, был противоположен типу организации крупной машинной индустрии, привычному и приемлемому для пролетариата. Ленин прекрасно в этом разбирался и делал все, чтобы поставить на службу поднимающемуся классу лучшие достижения эпохи.
Несомненно, под влиянием И. Сталина если и не замалчивалась, то полупризнавалась ленинская идея союза, или блока, с заграничными капиталистическими трестами при трезвом понимании их хищнически-эксплуататорских устремлений и вместе с тем превосходства в техническом, организационном и культурном отношениях. В течение 1921 года Ленин обосновывает, проводит, пропагандирует эту идею, которая вначале мыслилась как предоставление концессий на выгодных для капиталистов условиях и наращивание тем самым промышленного потенциала страны. Из того, что концессии не получили распространения главным образом по причине недоверия и враждебности капиталистического Запада к Советской России, отнюдь не следовало, что такого рода союз, который мог иметь и другие формы, вовсе не имеет перспективы, но возобладало восприятие этой глубокой идеи, о которой уже говорилось в главе V (§ 3. Спор о госкапитализме), под стать отсталому восприятию рабочих: «Свою буржуазию прогнали, а других будем пускать» [42,365], — и это наложило свой отпечаток на концепцию социализма 30—40-х годов.
И. Сталин, что бы о нем ни говорили, был в 20—50-е годы крупнейшим политиком национального и международного масштаба, «переигравшим», пожалуй, всех своих оппонентов, соперников и противников. Он был также сведущим экономистом, но не владел марксистской политической экономией с такой виртуозностью, как Ленин. Политический компонент всегда превалировал в его мышлении. Это было и достоинство, и недостаток. Этим отчасти объясняются просчеты Сталина в отношении момента нападения Германии на Советский Союз (уроки истории и «здравый смысл» перетягивали в сторону того, что Гитлер не решится на такую авантюру) и практически забытый неправильный стратегический вывод, сделанный уже после Второй мировой войны. Под влиянием эйфории от одержанной победы Сталин заключил, что с образованием параллельного мировому капиталистическому рынку мирового социалистического рынка «сфера приложения сил главных капиталистических стран (США, Англия, Франция) к мировым ресурсам будет не расширяться, а сокращаться, что условия мирового рынка сбыта для этих стран будут ухудшаться, а недогрузка предприятий в этих странах будет увеличиваться». Он объявил утратившими силу свой тезис об относительной стабильности рынков в период общего кризиса капитализма и тезис Ленина о том, что, несмотря на загнивание, в целом капитализм растет неизмеримо быстрее, чем прежде [27, 422]. Это была грубейшая ошибка. Сталин недооценил, а вернее — проглядел такой эпохальный фактор, как научно-техническая революция, не понял, что вслед за начавшимся распадом колониальной системы империализма тот, пользуясь своим технологическим, финансовым и военным превосходством, добьется создания системы неоколониализма.
Это не было случайностью, а вытекало из прежних взглядов Сталина на вопросы стратегического руководства.
«Резервы революции, — писал он в 1924 году, — бывают:
прямые: а) крестьянство и вообще переходные слои своей страны, б) пролетариат соседних стран, в) революционное движение в колониях и зависимых странах, г) завоевания и приобретения диктатуры пролетариата... и
косвенные: а) противоречия и конфликты между непролетарскими классами своей страны,.. б) противоречия, конфликты и войны (например, империалистическая война) между враждебными пролетарскому государству буржуазными государствами...»
Эта по-своему стройная конструкция была тщательно продумана и неплохо работала. Ее заучивали и применяли, не замечая весьма существенный недочет. По своим акцентам она была больше рассчитана на захват и удержание политической власти, чем на налаживание по-новому производства и других сфер общественной жизни. Это был шаг назад по сравнению с Лениным. В число резервов — и прямых, и косвенных — не попало противоречие между техникой, технологией, организацией современного промышленного производства, обусловливающими высокий уровень его специализации и концентрации, технико-технологического и организационно-технического обобществления и подводящими капиталистическое общество к рубежу обобществления экономического, с одной стороны, и господствующими частнособственническими отношениями — с другой. Ленин, мы это уже знаем, придерживался другого подхода.
Для Владимира Ильича было теоретически несомненным, что роль пролетариата в стране, где большинство мелкобуржуазно, заключается в руководстве переходом распыленных хозяев к обобществленному, коллективному, общинному труду.
«Пролетарская власть посредством концессий может обеспечить себе соглашение с капиталистическими государствами передовых стран, — указывал он на X съезде РКП (б), — и от этого соглашения зависит усиление нашей промышленности, без чего мы не можем двинуться дальше по пути к коммунистическому строю; с другой стороны, в этот переходный период, в стране с преобладанием крестьянства, мы должны суметь перейти к мерам экономического обеспечения крестьянства, к максимуму мер для облегчения его экономического положения. Пока мы его не переделали, пока крупная машина его не переделала, надо обеспечить ему возможность свободы хозяйничать».
Понадобится целый ряд особых переходных мер, считал Ленин, прежде чем в стране рассосутся частнособственнические уклады и все категории трудящихся станут социалистическими работниками. Удержать власть пролетариата в неслыханно разоренной стране без помощи капитала, который, конечно, сорвет за нее сотенные проценты, нельзя. Либо этот тип экономических отношений, либо никакой. Важно только соблюсти меру. Кто иначе ставит вопрос, тот ничего не понимает в практической экономике. Тип экономических отношений, который вверху имеет вид блока с иностранным капитализмом, даст пролетарской государственной власти возможность свободного оборота с крестьянством внизу.
Ленин с разных сторон высвечивает внешне парадоксальную мысль о частнохозяйственном капитализме в качестве пособника коммунизму. Экономический союз, блок, договор с передовым финансовым капиталом, по его расчетам, сулит укрепление нашей крупной промышленности и улучшение положения пролетариата, «того класса, который держит в своих руках государственную власть». Положительной чертой этого союзника является то, что он, как и пролетариат, — но, разумеется, исходя из совершенно иных, подчас противоположных, интересов и по-иному, — все же объединяет мелкое производство. А это не отдаляет, а приближает общество к социализму. Капитализм, а не социализм вырастает из мелкого товарного производства. Ленин не упускает из виду эту природно-историческую генетическую связь. Тем, чем для капитализма является мелкое товарное производство, — естественной предшествующей фазой экономического и социального развития, — капитализм, причем в своей высшей и последней стадии, является для социализма. Социализм как организованная система, то есть совокупность коллективистских форм, первоначально охватывающая различные способы и ремесленного, и индустриального труда, еще не может и не должен претендовать на всестороннее превосходство над достижениями капиталистической эры. Это никого не должно ущемлять и коробить. Социализм, не усвоивший, не амальгамировавший в себе все лучшее с точки зрения вклада в общечеловеческую цивилизацию, наработанное капитализмом, еще не является самим собой во всех отношениях. Предъявлять к нему претензии с позиций высокой степени зрелости — это все равно, что требовать от первоклассника, пусть и гениального, понимания эволюции форм стоимости по первому тому «Капитала» или же ожидать, что только вчера смонтированное новейшее оборудование уже сегодня покажет проектную мощность.
Ленина никогда не покидало чувство историзма. Он постоянно ратовал за сближение стадий социализма как организованной системы (по преимуществу формальное обобществление) и социализма как органической системы (обобществление на деле). Нечуткость в этом вопросе преемников Сталина и Мао предопределяет их место в истории социалистических учений. Речь идет не об отдельной ошибке или частном промахе, а о другом, нежели ленинское, видении истории, о другой концепции исторического процесса. Понимание роли техники, технологии и организации общественного производства при формировании новой общественной системы, по Марксу — Энгельсу — Ленину, означает совершенно определенное отношение к роли основной производительной силы общества — трудящихся масс. Оно глубоко демократично. Если сопоставить движение общества с движением корабля, то марксизм-ленинизм обращает внимание прежде всего на то, как работает машинное отделение и как чувствуют себя занятые в нем люди, а потом уже интересуется разного рода надстройками и службами, кончая капитанским мостиком. Но существует и другой взгляд на действительность, хотя он и не сформулирован как особая точка зрения: недооценка конкретной роли производительных сил и народных масс в истории при многочисленных абстрактных декларациях на эту тему; задержка на стадии формального обобществления при разрастании сети административных связей и естественно вырабатываемой ими тенденции к режиму личной власти; крен от исторического материализма к историческому идеализму.
Ленинская мысль часто неожиданна и дерзка. Она не считается с предрассудками и верованиями. Всегда это быстрина живой текучей действительности, всегда порыв и подвиг.
«Капитализм есть зло по отношению к социализму, — читаем в брошюре «О продовольственном налоге». — Капитализм есть благо по отношению к средневековью, по отношению к мелкому производству, по отношению к связанному с распыленностью мелких производителей бюрократизму. Поскольку мы еще не в силах осуществить непосредственный переход от мелкого производства к социализму, постольку капитализм неизбежен в известной мере, как стихийный продукт мелкого производства и обмена, и постольку мы должны использовать капитализм (в особенности направляя его в русло государственного капитализма), как посредствующее звено между мелким производством и социализмом, как средство, путь, прием, способ повышения производительных сил».
Этот урок диалектики более, чем 80-летней давности сохранил свежесть и актуальность до нашего времени. Скажите вы кому-нибудь из теперешних пропагандистов коммунизма, что капиталистическая форма хозяйства под внимательным наблюдением социалистического государства могла бы служить посредником между нашей неорганизованностью, неэкономичностью, неоперативностью, формами «социализма с особенностями, вызванными преобладанием мелкого крестьянства в населении», и социализмом без каких-либо оговорок, боюсь, дело не обойдется без догматических упреков и наветов. Но жизнь — упрямая вещь, ее переупрямить нельзя. Не посчитавшись раз-другой с объективными требованиями, связывающими современность «великими каузальными цепями эволюции» (М. Блок) с состоянием «костной и мускульной системы производства» (Маркс), вообразив, что можно неопределенное время совершать беспредпосылочный полет, мы рискуем проиграть в шахматной партии с историей. Зарвавшегося она всегда одергивает, возвращая на место и заставляя переделать заново работу, которая была начата, но не завершена.
От мелкотоварного производства, от мелкобуржуазного капитализма «и к государственному крупному капитализму, и к социализму ведет одна и та же дорога, — подчеркивает Ленин, — ведет путь через одну и ту же промежуточную станцию, называемую «общенародный учет и контроль над производством и распределением продуктов»».
Отрицать эту историческую общность комплексов технико-технологических и организационно-технических отношений со ссылкой на классовое неприятие капитализма как эксплуататорской системы означает не только не уметь думать, но и безответственно относиться к наращиванию преимуществ социализма, его месту на планете и обеспечению победы во всемирном масштабе. Социалистическая организация общества, все еще не наладившая общенародный учет и контроль над производством и распределением продуктов или же беспечно относящаяся к этой задаче, неизбежно испытывает трудности, а то и терпит поражения в экономическом, социальном и идеологическом соревновании с капитализмом. Условия этого соревнования становятся все более жесткими. В нем никому не дается поблажки. Отпугивать при этом кадры от всяческого выискивания и перенятия у нашего исторического контрагента технологических и организационных новшеств лишь потому, что они имеют «капиталистическое» происхождение и могут-де увлечь нас «не туда», нелепо и с теоретической, и с практической точки зрения.
«Это значит, — предупреждал Ленин, — как раз растекаться мыслью «в сторону» от действительной дороги «эволюции», не понимать этой дороги; на практике же это равносильно тому, чтобы тянуть назад к мелкособственническому капитализму».
Чтобы избежать каких-либо двусмысленностей в оценке блока социалистического государства с крупным капиталом, Владимир Ильич неоднократно поднимал вопрос о мере, определяющей выгодность и безопасность для новой социальной системы соответствующего этому блоку соглашения.
Оно целесообразно тогда, когда «Советская власть усиливает крупное производство против мелкого, передовое против отсталого, машинное против ручного, увеличивает количество продуктов крупной индустрии в своих руках.., усиливает государственно-упорядоченные экономические отношения в про¬тивовес мелкобуржуазно-анархическим» [43, 26, 29, 68, 82, 229, 219, 211-212, 224].
Думаю, что это вполне современная разумно-взвешенная позиция, прямо противоположная давлению в пользу любого рынка и любой ценой. Она повторена ельцинской администрацией «с точностью до наоборот».
Подведем некоторые итоги. Все изложенное достаточно убедительно показывает, что выдуманное В. Киселевым (хотя первым был не он, а А. Бутенко) различие между концепцией социализма, созданной Марксом и Энгельсом, и концепцией социализма, будто бы созданной Лениным в 20-х годах, не находит подтверждений. Точнее, двух концепций просто нет. Есть единое марксистско-ленинское учение о новом обществе, содержащее в себе анализ предпосылок социализма, возникающих в недрах капиталистического общества; элементы научного предвидения; рассмотрение возможных переходных форм. Все эти проблемы так или иначе представлены в трудах классиков марксизма-ленинизма. К сожалению, широкому читателю почти неизвестны многочисленные прозорливые суждения Маркса и Энгельса о перипетиях и особенностях будущего переходного периода от капитализма к социализму. Этот период изучается главным образом в освещении Ленина, в чьем учении, по сравнению с предшественниками, в силу особенностей исторической обстановки, в которой он действовал, исследование переходных форм занимает намного более обширное место.
Ленину принадлежат разработка практических мер по замене многоукладной экономики социалистической системой хозяйства, марксистская теоретическая модель переходного периода в мелкокрестьянской стране, определение основ экономической политики диктатуры пролетариата, но никакой другой модели социализма как общественного строя в противовес представлениям Маркса и Энгельса у него, очевидно, не было. Этого нельзя не учитывать, воссоздавая облик социализма, как его мыслил Ленин. Выраженная им в последнем публичном выступлении надежда на превращение нэповской России в Россию социалистическую получила окончательную конкретизацию в его заключительной статье «Лучше меньше, да лучше». Ленин завещал последователям сохранение за рабочим классом государственного руководства, создание максимально экономного аппарата управления, всемерную концентрацию сил и средств на развитии современной промышленности и энергетики. Он мечтал о том, чтобы революция смогла «удержаться не на уровне мелкокрестьянской страны, не на уровне этой всеобщей ограниченности, а на уровне, поднимающемся неуклонно вперед и вперед к крупной машинной индустрии». Народу было насущно необходимо «пересесть, выражаясь фигурально, с одной лошади на другую, именно, с лошади крестьянской, мужицкой, обнищалой, с лошади экономии, рассчитанных на разоренную крестьянскую страну, — на лошадь, которую ищет и не может не искать пролетариат...»
Таково последнее слово Ильича.
Можно было закончить на этой чистой оптимистической ноте, если бы не косяком пошедшие в конце 80-х годов «смелые» публикации на данную тему, потребовавшие объективной реакции. «Он мучительно думал, ошибался, отрешался от неверных решений, искал новые пути, — писал о советском периоде деятельности Ленина Н. Гордиенко, копируя А. Яковлева. — Напор жизни не укладывался в некоторые утопические идеи. Так, для Ленина было жестоко мучительно сознавать, что Маркс и Энгельс ошиблись в моделировании нетоварного, безрыночного способа производства. Гипотеза не прошла проверку жизнью, «военный коммунизм» был ошибкой». Так нас опять настиг миф. В действительности тех мучений, да еще жестоких, которые выдумали «журналист» и его «патрон», Ленин не испытывал. Он отлично знал, что в принципиальном моделировании будущего, описывать подробности которого Маркс и Энгельс отказывались, его учители ошибиться не могли. Еще в «Принципах коммунизма» 1847 года Энгельс на вопрос:
«Возможно ли уничтожить частную собственность сразу?» — ответил: «Нет, невозможно, точно так же, как нельзя сразу увеличить имеющиеся производительные силы в таких пределах, какие необходимы для созда-ния общественного хозяйства. Поэтому надвигающаяся по всем признакам револю¬ция пролетариата сможет только постепенно (курсив мой. — Р.К.) преобразовать нынешнее общество и только тогда уничтожит частную собственность, когда будет создана необходимая для этого масса средств производства» [4, 331—332].
«Проверка жизнью», которую имеет в виду Н. Гордиенко, «военный коммунизм», длилась всего два с половиной года. Для выявления качества научной гипотезы, рассчитанной на смену общественно-экономической формации, это ничтожный, а потому заведомо недостаточный срок. На «военный коммунизм» Ленин и многие ленинцы не возлагали миссию подтверждения марксистского научного социализма. «Военный коммунизм», при всех многочисленных конкретных ошибках, которые совершались в этот период, сам в целом не был ошибкой. Он был крайним средством, когда стоял вопрос о выживании Советской власти в военных условиях. Ошибкой было изображать его как уже сложившийся новый строй.
Подобно В. Киселеву и другим, Н. Гордиенко инкриминирует Марксу и Энгельсу «военный коммунизм», хотя доказано и передоказано, что они непричастны к этой концепции и этой политике, также как непричастен Ленин к превращению ее в перманентную практику. Ленина все время пытаются отщепить от Маркса и Энгельса, приписав ему некую другую, резко отличающуюся методологию. Но надо слушать не «жестокие романсы» публицистики, а самого Владимира Ильича. В своем последнем интервью корреспонденту «Манчестер гардиан» (октябрь-ноябрь 1922) он потешается над выдумкой вульгарной политической экономим о «непрерывном экономическом усилении нэпманов», «непрерывном экономическом ослаблении государства» и т. п.
«А я, — подчеркивает Ленин, — позволяю себе думать по старинке, что после Маркса говорить о какой-нибудь другой, немарксовой политической экономии можно только для одурачения мещан, хотя бы и «высокоцивилизованных» мещан» [45, 405-406, 268].
Мне кажется, что такая «старинка» могла бы сыграть в условиях здоровой перестройки роль самой эффективной теоретической новинки.
Стремление представить Ленина не таким, каким мы его привыкли видеть, потянуло иных авторов на совсем уж дурно пахнущие сенсации. В. Сироткин в подкрепление собственного произвольного толкования уроков нэпа сослался на изданные в Париже и Нью-Йорке воспоминания некоего В. Бажанова, бывшего секретаря И. Сталина. В них фигурирует якобы диктовка Владимира Ильича М. Гляссер и Л. Фотиевой, относящаяся к самому концу 1923 года. «Конечно, мы провалились, — гласит этот «документ». — Мы думали осуществить новое коммунистическое общество по щучьему велению. Между тем, это вопрос десятилетий и поколений. Чтобы партия не потеряла душу, веру и волю к борьбе, мы должны изображать перед ней возврат к меновой экономике... как некоторое временное отступление. Но для себя мы должны ясно видеть, что попытка не удалась, что так вдруг переменить психологию людей, навыки их вековой жизни, нельзя. Можно попробовать загнать население в новый строй силой, но вопрос еще, сохранили бы мы власть в этой всероссийской мясорубке». У В. Сироткина «нет сомнений в точности передачи мысли Ленина», а у меня они есть. Первое, что вызывает недоумение, так это крайний пессимизм, безнадежный упадок духа, по сути признание краха большевистского дела — вещи, не вяжущиеся с кипучей ленинской натурой. Второе — это обнаженный цинизм, фактически установка на обман партии. Третье — проповедь насильственных методов, принудительного «осчастливливания» людей. Все это находится в непримиримом противоречии с ленинизмом.
На мой взгляд, вынесение подобного сомнительного источника и многомиллионную читательскую аудиторию и использование его в своей аргументации научно несостоятельно и безнравственно. Сей источник по своему духу несовместим с идейно-теоретическим наследием Ленина, с тем, что называют его политическим завещанием. Кроме того, обращает на себя внимание следующее обстоятельство. Полупарализованный больной прекратил свои диктовки в марте 1923 года в связи с утратой дара речи. По свидетельству О. Пятницкого, посетившего Ленина в конце октября, тот живо слушал собеседников, но мог хорошо произнести только «вот-вот». Осенью 1923 года в состоянии Владимира Ильича наступило улучшение. «Свежий воздух, лечение помогли Ленину, — рассказывает чекист А. Бельмас. — Начала восстанавливаться речь, он систематически учился писать левой рукой, значительно окрепла нога».
2 ноября Ленина посетила группа рабочих Глуховской мануфактуры. «Как я рад, что вы приехали», — внятно и ясно сказал он гостям. Но сведений о каких-либо ленинских диктовках этого времени, как, естественно, и их самих (если бы существовала диктовка, процитированная В. Сироткиным, были бы, наверное, и другие), не имеется. Поэтому уверенность в подлинности утверждений Б. Бажанова и «Архива Троцкого» весома не более чем мнение, что мы имеем дело с фальшивкой. В западной литературе можно найти и не такое... Остается только гадать, почему многие наши ученые и публицисты охотно идут ей навстречу.
Когда этот сюжет уже был «выписан», появилась статья В. Логинова «Не торопиться, а сопоставлять». Видный лениновед высказывает аналогичную моей точку зрения. Он обращает внимание на то, что при цитировании «диктовки» в «Известиях» В. Сироткин после слов «возврат к меновой экономике» по неизвестным мотивам (может быть, для того, чтобы не вызвать резкий протест читателя?) опустил слова «к капитализму...». В. Логинов указывает, что Б. Бажанов, бежавший за рубеж в 1928 году, ссылался не на документ, а на свою беседу с «секретаршами», то есть писал по памяти. Разговор «секретарш» с Лениным, на который Б. Бажанов ссылается, никак не датирован. Возможность диктовки в конце 1923 года более чем сомнительна по указанной мною причине. В. Логинов цитирует воспоминания Н. Крупской о Ленине: «Не только не мог писать, но и сказать ни слова». «Иными словами, — заключает историк, — гипотеза о принадлежности Ленину фрагмента, опубликованного в воспоминаниях Бажанова, представляется мне весьма спорной». В. Логинов очень деликатен. С научной точки зрения домысел В. Сироткина и других признакам гипотезы не соответствует. Заинтересованность же совершенно определенного типа «измышленцев» у нас и за рубежом в том, чтобы Ленин сам признал историческую, политическую и моральную несостоятельность большевизма, очевидна.
5. Немного лирики, или во что рядятся нынче короли
Для того чтобы убедительно излагать лирические сюжеты, нужно иметь надлежащее настроение и уметь передать его другому. Тут Л. Нуйкин прав: сюжет должен «греть» пишущего, причем, конечно, намного больше, чем читающего, с тем, чтобы он почув¬ствовал хотя бы слабую теплоту.
Поскольку у автора этих строк температура чрезвычайно редко оказывается выше нормальной, — и сейчас, она, увы, нормальная, — для начала лучше предоставить слово тем, кто в разгар «перестройки» пребывал в самом эпицентре накалившихся страстей.
«Известно, — писал Н. Шмелев в нашумевшей статье «Авансы и долги», — что к моменту победы революции в России никто из ее признанных теоретиков и наиболее авторитетных практиков не имел (да и не мог иметь) более или менее законченного представления о контурах будущей экономической системы социализма. Маркс и Энгельс разработали теоретические основы революции, обосновали ее объективную неизбежность, однако в отношении того, какой должна быть экономика после победы, у них имелись лишь догадки. Речь шла преимущественно о самых общих социально-экономических целях социализма. Они не оставили нам фактически ничего, что можно было бы рассматривать как практический совет относительно методов достижения этих целей. Предреволюционные работы В. И. Ленина также были в основном посвящены чистой политике (как уничтожить отживший общественный строй), но отнюдь не тому, что конкретно придется делать, чтобы наладить полнокровную экономическую жизнь после революции.
Революция, таким образом, — продолжал Н. Шмелев, — застала нас не вооруженными продуманной, законченной экономической теорией социализма. Есть, однако, основания считать, что в первые месяцы после Октября, когда обстановка еще позволяла, Ленин уделял этой проблеме серьезное внимание. Именно тогда он сформулировал свою знаменитую мысль о том, что социализм есть Советская власть плюс прусский порядок железных дорог, плюс американская техника и организация трестов, плюс американское народное образование и т. п. Надо, писал он тогда же, учиться социализму у организаторов трестов. Большое значение он также придавал денежной политике и здоровой сбалансированной финансовой системе. Как видно, в начальный период революции Ленин исходил из того, что капитализм уже создал для социализма все необходимые экономические формы, нужно только наполнить их новым, социалистическим, содержанием.
Однако последовавшие затем события вызвали к жизни политику «военного коммунизма» с ее исключительно административными, волевыми методами организации экономики. В какой-то момент Ленин, поглощенный этой борьбой не на жизнь, а на смерть, видимо, и сам стал верить в то, что приказные методы — это и есть основные методы социалистической экономики».
Признаюсь, мало я встречал опусов, которые бы вызывали такое нарастающее азартное любопытство. Самое поразительное заключается в том, что при наличии обширнейшего, всем доступного документального арсенала (Сочинения К. Маркса и Ф. Энгельса, Полное собрание сочинений В. И. Ленина, не говоря уж о других источниках), который только надо взять на себя труд прочесть и осмыслить, нам (вам, дорогой читатель) преподносилась некая небрежная сентенция, по сути рекомендация в случае появления у кого-либо желания составить представление «о контурах будущей экономической системы социализма» к этому арсеналу не обращаться.
«Когда это все писалось, — слышится голос филистера, присутствующего в любом обществе, — теперь у нас другое время...»
«...Никто ...не имел... более или менее законченного представления...»; «...Лишь догадки»; «...Фактически ничего...»; «...Посвящены чистой политике (какуничтожить отживший общественный строй), но отнюдь не тому, что конкретно придется делать...»; «Революция... застала нас не вооруженными...»; «...Учиться социализму (!) у организаторов трестов»; «...Видимо, и сам стал верить...». Не кажется ли вам, товарищ, что это густовато замешено?!
Любой читавший «Критику Готской программы» Маркса и «Государство и революцию» Ленина, даже не соглашаясь с их взглядами, честно скажет, что у большевиков перед Октябрем был-таки теоретический проект будущего общества. Идеи национализации и кооперирования средств производства, распределения по труду, планомерности, государственного конституирования диктатуры пролетариата (особенно на примере Парижской коммуны) исходили от Маркса и Энгельса. Их экономические труды, прежде всего «Капитал», содержат и поныне не освоенные методологические установки, которые не умели применить и, как все непонятное и не понятое, сочли за благо предать забвению. Печально об этом говорить, но присталинский «катедер-коммунизм», хрущевская импульсивность и брежневский застой привели к списанию основного массива марксизма в разряд внешне почитаемой, но «невостребованной» науки. Ленин начал свою научную деятельность отнюдь не с работ, посвященных «чистой политике», тем более что такой в действительности не существует, решить же вопрос о том, «как уничтожить отживший общественный строй», можно, только решая вопрос о том, чем его заменить. Начиная с 1893 года, им был создан цикл работ о развитии внутреннего рынка и капитализма в России. «Чистую политику» он всегда связывал с эволюцией экономического базиса и классовых отношений. Идущие от революционной демократии «проклятые» вопросы: «Кто виноват?», «Что делать?», «С чего начать?» — рассматривались в большевизме во всей их многоаспектности и конкретности. Уже в начале века партия располагала научными аграрной и национальной программами. После Февраля Ленин разрабатывает экономическую программу революционно-демократического правительства, резко оттеняющую беспомощность и бездарность правящей буржуазии: национализация банков; национализация синдикатов; отмена коммерческой тайны; синдицирование промышленников; объединение населения в потребительские союзы. Придя к власти в октябре 1917 года, оказавшиеся «не вооруженными... теорией» большевики одним махом национализируют землю и банки, вводят рабочий контроль над производством. В числе первоочередных вопросов Ленин выдвигает взамен капиталистической конкуренции организацию социалистического соревнования и поощрение зачатков коммунистического труда. Весной 1918 года он обосновывает систему экономических мер, стержнем которой является генетически связанная с «Капиталом» Маркса концепция формального и реального обобществления труда и производства. Ленин призывает учиться у организаторов трестов не «социализму», как утверждает Н. Шмелев (интересно бы узнать, что это за «наука»), а управлению новейшей машинной индустрией. Составляется первый народнохозяйственный план — ГОЭЛРО. И все это делали люди, имевшие «лишь догадки». Правильно писал Б. Бурсов: «Самый неприятный вид высокомерия — высокомерие по отношению к гению». Эти мудрые слова мало кого учат соблюдению меры. Видать, не перевелись на Руси охотники похлопывать по плечу «брат-Пушкина»!
В апреле 1988 года газета «Московские новости» поместила статью американского экономиста Маршалла И. Голдмана — факт сам по себе очень любопытный — с его советами, предназначенными для Политбюро ЦК КПСС. В сущности, профессор предложил свою программу советской перестройки:
— роспуск совхозов и колхозов и возврат к частному земледелию;
— возрождение частного предпринимательства и системы наемного труда, исходя из соображения, «что неважно, какой масти лошадь — лишь бы везла»;
— создание иностранным капиталистам более привлекательных условий для инвестиций в Советском Союзе и для перевода прибыли за рубеж.
Не вступая в спор с американцем по поводу его видения наших проблем, отмечу, что одновременно была опубликована в «Новом мире» статья Н. Шмелева «Новые тревоги». В ней автор углубил линию, намеченную в статье «Авансы и долги», на этот раз применительно к конкретным условиям и ходу «перестройки», высказал ряд новых соображений.
Разбор взглядов Н. Шмелева по проблемам политической экономии и научного коммунизма, истории социалистического строительства и современной экономической политики, с которыми у автора этих строк есть несогласие, занял бы много места. В то же время пафос и озабоченность Н. Шмелева, ряд метких, критических высказываний нельзя было не разделять. Следовало бы поддержать его в изыскании способов использования для подъема социалистической экономики различных форм индивидуальной, частной, а в определенных случаях и капиталистической предприимчивости. Но надо ли было одновременно проявлять поспешную готовность потерять «свою идеологическую девственность», хотя Ленин, как мы видели, мыслил решение указанных задач в рамках марксизма при режиме пролетарской диктатуры, надо ли превращать перестройку в своего рода мировоззренческий стриптиз? На эти вопросы, возникавшие при чтении шмелевских публикаций, можно было ответить только категорическим «нет».
Особенно мрачное впечатление в «Авансах и долгах» произвело предложение применить специфически капиталистический метод повышения производительности труда и общественной дисциплины — узаконить безработицу. «Надо бесстрашно и по-деловому обсудить, — писал Н. Шмелев, — что нам может дать сравнительно небольшая резервная армия труда, не оставляемая, конечно, государством полностью на произвол судьбы. Это разговор о замене административного принуждения сугубо экономическим». Обращает на себя внимание по крайней мере два аспекта этого рассуждения. Первый — тот, что, судя по всему, Н. Шмелев признавал лишь метод принуждения (административного или экономического) и игнорировал метод убеждения, который широко применяется при социализме и является одним из отличительных признаков этой общественной системы. Неумение пользоваться таким методом, плохое понимание возможностей его органической увязки с мерами экономического стимулирования трудовой активности не есть аргумент в пользу его отрицания.
Второй аспект — сугубо экономическое принуждение трактовалось Н. Шмелевым, как и некоторыми другими экономистами, в узко коммерческом смысле слова. Несомненно, собственно коммерческие (Ленин называл их еще и капиталистическими) рычаги должны на своем месте и в свое время функционировать и в механизме социалистической экономики. Исторически их как достижение предшествующей стадии развития цивилизации наследует социализм. Но на действии только этих рычагов ничего совершеннее, чем высокоразвитый капитализм, создать нельзя. История уже показала и их возможности, и их ограниченность. Социализм, если он представляет собой капитализм в снятом виде, то есть строй, наследующий или заимствующий его производительные силы, передовую технологию, организацию производства и сбрасывающий присущие ему эксплуататорские производственные отношения, должен выявить и добавить к уже имеющимся новые, свои факторы общественного прогресса, и в этом состоит так и не понятый главный вопрос. Между тем ничего специфически социалистического в конкретных предложениях Н. Шмелева не содержалось. Более того, многие читатели заметили: существенная часть этих предложений в общем и целом совпадала с советами Маршалла И. Голдмана, что югославский писатель Б. Китанович удачно определил как подбрасывание кукушкина яйца.
Со второй половины 80-х годов горбачёвцами все шире инспирировалась постановка под вопрос или же опровержение социалистического характера нашего строя. Люди, получившие, несмотря на скромный достаток и общественное положение своих родителей, бесплатное высшее образование и ученые степени, пользовавшиеся почти даровым жильем и бесплатным (пока что плохо организованным, но обеспечивающим всем должные гарантии) здравоохранением, вдруг «прозревая», восклицали: «Смотрите, как мы живем! Смотрите, как живут на Западе! Да разве это социализм? Пусть там, у них и платные услуги, но зато обеспечивается качество! Хочу, чтобы у нас было так же». Эта тирада приводится здесь отнюдь не для ее осуждения. Запущенность нашей сферы обслуживания к тому времени навязла у всех на зубах, и в сравнении с любой, причем не только европейской, страной она выглядела крайне убого. Однако научная оценка общественной системы лишь по состоянию сферы обслуживания не только неполна, но и просто невозможна. Социализм это или не социализм, — хорош он или плох, — можно судить только по положению человека труда, по его возможностям выбиться наверх, по доступности для него высших достижений культуры. Возникающие в этой связи ощущения индивида, мнящего себя частью «элиты», и индивида из толпы способны расходиться диаметрально, и никому из них не надо верить на слово.
«...Я не считаю созданное у нас общество социалистическим, хотя бы и «деформированным», — заявлял Ю. Афанасьев. — «Деформации» эти касаются его жизненных оснований, политической системы, производственных отношений и решительно всего остального. ...Современную теорию социализма... надо создавать заново с помощью Ленина, а не попросту выискивать ее в его произведениях». Мотивация этой точки зрения достаточно хорошо известна: Ю. Афанасьев, ссылаясь на культ личности, с пионерской звонкостью осуждал весь послеленинский путь Советского государства, не признавал в нем светотень, а, видя в нем как истории сплошное «белое пятно», объявлял его сплошь «черной дырой». И Н. Шмелева, и Ю. Афанасьева не устраивала не только история, но и теория. Н. Шмелев выразил это в своих суждениях о классическом наследии, Ю. Афанасьев — в последней из цитированных фраз. Провозглашавшаяся им «современная теория социализма», которую, как он считал, надо создавать заново, представляла собой заведомо утопическую заявку. Вы спросите, почему. Ну, например, хотя бы потому, что, судя по его многочисленным выступлениям, Ю. Афанасьев не владел основами ленинизма. А ленинизм — это такая духовная глыба, отвалить которую в сторону и шагнуть в абсолютную «новизну» не под силу даже титану. В этом, надеюсь, можно было убедиться, читая предыдущую и данную главу. «С этой почвы, — писал Ленин о наследии Маркса и Энгельса, — мы не должны сходить» [49, 378]. Сойдя с нее, обществовед оказывался вообще без почвы.
Удивительно влиятельна и бесподобно очаровательна, способна кого угодно свести с ума мадам Конъюнктура. На дискуссии в МГУ (декабрь 1987) мне собственными ушами посчастливилось услышать от А. Бутенко, что строй, созданный в нашей стране после Октября, не является социалистическим. Какой это строй? — спросили его. Надо думать, ответил он. Так изменил свою позицию человек, который десятилетиями претендовал на роль ведущего исследователя социализма, опубликовал десятки, если не сотни, работ, в том числе книги «Социализм как общественный строй» (1974), «Социалистический образ жизни: проблемы и суждения» (1978), «Развитой социализм: предвидение, становление, сущность» (1979), «Политическая организация общества при социализме» (1981), «Реальный социализм» (1982), «Социализм как мировая система» (1984). Для чего предназначалось все это «творчество», если его субъект без душевной драмы признал по сути отсутствие его объекта? Для построения «потемкинских деревень» и втирания очков начальству или же для «вразумления» масс? А если предположить нечто фантастическое, например: не было предмета — не было и книг о нем, не было книг— не было и автора... На эти вопросы должен был (во всяком случае, себе) ответить не мальчик, но муж, выросший на критике сперва правого, потом «левого» ревизионизма, защитивший на обоих «закрытую» докторскую диссертацию и все еще претендовавший на место в науке. Именно таких, как он, имел в виду Б. Олейник, внесший на XIX Всесоюзной конференции КПСС предложение «своевременно состыковать наконец два этажа, наметившиеся в перестройке. Условно первый, где в поте чела трудятся ученые и теоретики, которые уже доперестраивались до того, что вдруг задались вопросом: что же мы вообще построили? И это на восьмом десятке Советской власти вопрошают люди, до последнего мига зарабатывавшие деньги на теоретическом обосновании этого самого «нечто»!
И вправду: страшно далеки они от условно второго этажа, где реально трудится народ. Почти как декабристы. С той существенной разницей, что дело последних не пропало, а вот от первоэтажников пока весьма мало хотя бы деловых предложений».
Незадолго до введения нэпа партии, как известно, была навязана дискуссия о профсоюзах. Ленин считал ее непозволительной роскошью в тот момент, когда после окончания гражданской войны решался важнейший и сложнейший вопрос внутренней политики — изменялись содержание и форма рабоче-крестьянского союза. На X съезде РКП(б) он дал отпор «рабочей оппозиции», которая выступала со своей платформой, посягнула на единство партии, зная о кронштадтских событиях и поднимавшейся мелкобуржуазной контрреволюции. «Довольно, нельзя так играть партией!» — решительно заявил Владимир Ильич [43, 39].
Конечно, публицистов, которые упомянуты в настоящей главе, смешно было бы упрекать в том, что они играли партией, — калибр не тот. Но то, что они играли марксистско-ленинской теорией, сомнений не вызывает. Может быть, кому-то подобные игры и игривость и доставляли удовольствие, но среди большевиков-ленинцев в очевидном соответствии с наукой они воспринимались всегда сдержанно. Взять хотя бы ситуацию с троцкистско-зиновьевской оппозицией, которая подробно рассматривалась на XV конференции ВКП(б) (октябрь-ноябрь 1926). Л. Троцкий, стараясь тогда доказать свою правоту в отношении роли крестьянства в революции, попробовал отнести совершенно правильные ленинские высказывания, связанные с ее буржуазно-демократическим этапом, к этапу социалистическому. «Я считаю, что это прямо возмутительная игра с Ильичом», — заявил в полемике Н. Бухарин. Он страстно разоблачал недопустимые попытки Л. Троцкого прикрывать свои сомнительные взгляды ленинским авторитетом. «Пускай он говорит от своего имени, а не от имени Ленина, и пускай не выступает под псевдонимом Ленина, — настаивал Н. Бухарин. — Это будет гораздо лучше, теоретически честнее и для партии полезнее». Наверное, это мнение могло бы быть авторитетным для В. Киселева и других. Имеете иную, нежели ленинская, точку зрения — извольте ее так и представить. Можете ее защитить неопровержимыми аргументами — ваше счастье. Но не надо ничего передергивать ни в истории, ни в текущей действительности, ни тем более в теории, где без специальной трудоемкой подготовки подчас невозможно отличить истину от ее подобия.
6. «Советский способ производства» — гипотеза или реальность?
В середине 80-х годов в связи с постановкой задачи восстановления ленинской концепции социализма А. Яковлевым был поставлен и вопрос об изменении его сущности. При этом использовалась ссылка на следующий фрагмент из «Философских тетрадей»: «В собственном смысле диалектика есть изучение противоречия в самой сущности предметов: не только явления преходящи, подвижны, текучи, отделены лишь условными гранями, но и сущности вещей также». Поскольку доказательной конкретизации данного положения применительно к теории социалистического общества не последовало, среди обществоведов по этому поводу было немало взволнованных толков и пересудов. Появились также интерпретации сущности социализма, фактически означающие отказ от него.
Думаю, что и здесь, как это уже сделано по отношению к нэпу (глава V, § 2), следует применить положение из того же первоисточника о бесконечном углублении мысли человека от явления к сущности, от сущности первого порядка к сущности второго порядка и т. д. [29, 227]. В этом контексте раннее ленинское определение сущности социализма как перехода средств производства в собственность всего общества и замены капиталистического производства производством по общему плану в интересах всех членов общества (см.: глава IV, § 9), соответствуя условиям формально¬го обобществления, отражает сущность первого порядка. Этого было достаточно в предреволюционный период. Развертывание же определения социализма в духе концепции обобществления на деле в ходе социалистических преобразований означает движение к сущности, так сказать, второго порядка, которое продолжается.
Именно поверхностная задержка на сущности первого порядка является главным теоретическим грехом пропагандистской версии социализма 30—50-х годов. Именно углубление познания и практики до сущности второго порядка — и далее без конца — отличает подлинный ленинизм.
История социализма, которая трезво показала бы процесс становления его сущностных черт, раскрывала бы, помимо партийно-государственных акций, его объективное формационно-ступенчатое вызревание, так и не была написана. В силу этого постоянно сохранялась возможность и опасность произвольно объявить социалистическим то, что таковым не является. Обилие же в обществе разнообразных переходных форм и состояний одновременно с невниманием к строгим критериям социалистичности и коммунистичности сбивало с толку иногда весьма «ученых» мужей. В агитации и пропаганде десятилетиями наблюдалось одно и то же явление: если уж что-либо хвалят, то стараются не замечать недостатки и даже наказывают тех, кто обращает на них внимание; если уж стали разносить, то совершенно отбрасывают все, что было положительного, и щелкают тех, кто о нем не забыл. «Был бы лозунг, а перегибщики всегда найдутся», — запомнил я фразу М. Кузнецова, читавшего у нас в МГУ историю советской литературы. Защита от них, воспитание чувства меры у тех, кто хоть в малой степени делает политику, превратилось в поистине общенациональную проблему.
При различении в системе производственных отношений таких видов их, как технико-технологические (ТТ), организационно-технические (ОТ) и производственно-экономические (ПЭ), без большого труда устанавливается тот факт, что изменение самих этих видов происходит с неодинаковой скоростью. ТТ по сути не отрываются от производительных сил (ПС), изменяются с ними, как говорил Плеханов, «параллельно». ОТ несколько отстают, но, как правило, приходят в соответствие с ПС и ТТ без особенно долгих задержек и конфликтных противопоставлений. Что касается ПЭ, то они ведут себя очень своенравно. Закрепляемые интересом господствующего класса, его богатством и всей атрибутикой власти — от идеологической обработки до прямого военного насилия, они представляют собой наиболее консервативный слой производственных отношений и, устаревая, отбрасываются (по крайней мере так было до сих пор) революционным путем.
Если иметь в виду общую закономерность во всемирно-историческом масштабе, то процесс эволюции общественного производства можно изобразить формулой:
ПС & ТТ → ОТ − → ПЭ, где «параллельное» с производительными силами развитие технико-технологических отношений обозначается знаком союза, а детерминация технико-технологическим комплексом организации труда — короткой стрелкой. Длинная стрелка, на острие которой «накалываются» ПЭ, обозначает относительную самостоятельность производственно-экономических отношений и длительность интервалов, разделяющих их качественно различные формы.
Иллюстрируя с помощью этой символики перестановку ступеней исторического процесса в нашей революции, мы получаем: ПЭ → ОТ ─ → ПС & ТТ. Предшествование формально-юридического обобществления производства возникновению соответствующего типа его организации на базе определенного уровня производительных сил и технологии — в этом материальный источник и тайна как гигантского успеха командно-административной системы, сумевшей обеспечить непостижимо высокие темпы индустриализации, срочную перестройку экономики применительно к нуждам обороны в первые полтора года Отечественной войны, быстрое послевоенное восстановление народного хозяйства, так и последовавших неудач. Формальное обобществление обнаружило свою способность давать почти мгновенный эффект при взаимодействии с экстатическим подъемом масс в экстремальных условиях и сильной, не останавливающейся перед ущемляющими демократию методами властью. Оно теряет эти свои возможности, как только устанавливается спокойная обстановка, падает авторитет и действенность чрезвычайных мер. И тогда требуется восстановление общеисторического порядка при обязательном примате научно-технического прогресса, с тем чтобы не подорвать результаты борьбы народа, которая хоть какие-либо шансы открывала ему на завоевание для себя не совсем обычных условий для дальнейшего роста цивилизации [45, 380]. При этом огромную роль приобретает динамичность и оперативность действий, их научная обоснованность, слаженность и последовательность, рачительное использование исторического времени. В противном случае новую общественную систему может ожидать бесплодное пробуксовывание и спад.
Остановка движения познания на сущности первого порядка дорого обошлась советскому обществу, другим социалистическим странам. Построение основ социализма, связывавшееся у нас почти исключительно с распространением общественной собственности на важнейшие отрасли народного хозяйства, постепенно трансформировалось в пропаганде сперва в полную победу социализма, потом в «полную и окончательную». Дальше могло быть только «развернутое строительство коммунизма», «коммунизм в основном», никак не меньше. Это тем более прискорбно, что, предпринимая очень мало в целях превращения формального обобществления труда и производства в реальное, социалистического работника — в полновластного хозяина, общество по сути не выводилось за исторические рамки переходного периода, не было гарантировано от вспышек буржуазности и мелкобуржуазности, не понимало возникающих и нарастающих противоречий и не знало, где оно находится.
Наши обществоведы, упоенные «пропагандой успехов», долго не хотели замечать один из парадоксов современной эпохи. Перезрелость капитализма на империалистической стадии, которую они считали лишь признаком его общего кризиса, не помешала и даже, напротив, помогла ему, хотя и не всегда добровольно, заимствовать и внедрить некоторые прогрессивные новшества, отнюдь не вытекающие из природы частнособственнического строя. «С 1917 г. капитализм перестал быть замкнутой системой», — указывается в книге «Капитализм на исходе столетия». Он «просто не мог — ни политически, ни экономически, ни социально — не считаться с российской революцией, взорвавшей капиталистические порядки и создавшей строй, обращенный к человеку труда». Это, в частности, относится к принципам и методам ведения капиталистического хозяйства на всех уровнях. При всех маневрах и извивах экономической политики буржуазных правительств определилась общая направленность осуществляемых перемен — «все большее дополнение, а в ряде случаев и прямое замещение стихийно-рыночных регуляторов воспроизводства централизованными, растущая государственно-монополистическая централизация управления производством». Сохранение конкуренции в качестве стихийного регулятора пропорций общественного воспроизводства согласно требованиям закона стоимости не смогло воспрепятствовать внедрению элементов планомерности, воплощаемых в регулировании, программировании или индикативном планировании экономического роста. Тут, как признают сами западные экономисты, сказалось влияние социализма, его исторический вызов.
Но не только это. Дало себя знать также объективное противоречие между быстро изменяющимся, всесторонне совершенствуемым в тигле научно-технической революции комплексом технологии и организации индустриального производства, с одной стороны, и системой частного присвоения — с другой. Данное противоречие по-своему напоминает о том, что и современная капиталистическая экономика тоже носит переходный характер. Разумеется, переходность переходности рознь, и социально-экономические формы, наблюдаемые в капиталистическом и социалистическом обществе, недопустимо отождествлять. В то же время, имея в виду общий обоим вектор обобществления, о многом стоит задуматься. И, прежде всего, о том, почему некоторые советские авторы те достижения капитализма, которые получены главным образом за счет социалистических вкраплений, приписывают исключительно частно-собственническим отношениям. Не свидетельствующее о высокой методологической культуре бросание из крайности в крайность проявляется сейчас в резком повороте от безудержного самовосхваления к яростному самооплевыванию, к которому пристегивается «научно» оформляемая, метафизическая, мещански-односторонняя апологетика капитализма. Мы (в лице отдельных активных публицистов и ученых) не только охотно заглатываем высокомерные нотации Запада, вроде по-своему замечательного интервью М. Тэтчер, пожелавшей «каждому стать капиталистом», но стараемся их превзойти. Характерно, что наиболее основательно мыслящие ученые «оттуда» вроде Дж. Гэлбрайта, В. Леонтьева, А. Ноува в 80-х годах уже начали нас сдерживать и поправлять.
Вернемся немного в прошлое. В июле 1934 года Г. Уэллс посетил И. Сталина. Писатель в это время находился под большим впечатлением от поездки в США. Ему казалось, что «новый курс» Ф. Рузвельта, явившийся реакцией на ужасающий кризис конца 20-х — начала 30-х годов, должен привести к сближению двух систем. «Ленин в свое время сказал, что надо «учиться торговать», учиться этому у капиталистов, — заявил Г. Уэллс. — Ныне капиталисты должны учиться у вас, постигнуть дух социализма. Мне кажется, что в Соединенных Штатах речь идет о глубокой реорганизации и о создании планового, то есть социалистического хозяйства. Вы и Рузвельт отправляетесь от двух разных исходных точек зрения. Но не имеется ли идейного родства между Вашингтоном и Москвой?»
И. Сталин отнесся к энтузиазму знаменитого фантаста с большим сомнением. Допуская возможность частичного успеха американцев, он указал на различие целей США и СССР. По его словам, при сохранении частнокапиталистической экономической базы «в лучшем случае речь будет идти не о перестройке общества, не об уничтожении старого общественного строя, порождающего анархию и кризисы, а об ограничении отдельных отрицательных его сторон, ограничении отдельных его эксцессов». Г. Уэллс не соглашался и настаивал на своем. «Организация и регулирование индивидуальных действий, — говорил он, — стали механической необходимостью, независимо от социальных теорий. Если начать с государственного контроля над банками, затем перейти к контролю над транспортом, над тяжелой промышленностью, над промышленностью вообще, над торговлей и т. д., то такой всеобъемлющий контроль будет равносилен государственной собственности на все отрасли народного хозяйства. Это и будет процессом социализации. Ведь социализм, с одной стороны, и индивидуализм — с другой, не являются такими же антиподами, как черное и белое. Между ними имеется много промежуточных стадий. Имеется индивидуализм, граничащий с бандитизмом, и имеется дисциплинированность и организованность, равносильная социализму. Осуществление планового хозяйства зависит в значительной степени от организаторов хозяйства, от квалифицированной технической интеллигенции, которую можно, шаг за шагом, завоевать на сторону социалистических принципов организации. А это самое главное. Ибо, — сначала организация, затем социализм. Организация является наиболее важным фактором. Без организации, идея социализма — всего лишь идея». Сталин теоретически не исключал возможность в условиях капитализма понемногу идти к той цели, которую, по Г. Уэллсу, называл «социализмом в англо-саксонском толковании этого слова», но и говорил о непреодолимости классового антагонизма между капиталистами и рабочими, бедными и богатыми эволюционно-реформистским путем. В свою очередь писатель констатировал «осозна¬ние широкими кругами того факта, что система, покоящаяся на частной наживе, рушится», и утверждал, «что надо не выпячивать антагонизм между двумя мирами, а стремиться сочетать все конструктивные движения, все конструктивные силы, в максимально возможной степени. Мне кажется, — иронизировал он, — что я левее Вас, м-р Сталин, что я считаю, что мир уже ближе подошел к изжитию старой системы».
Со времени этого спора прошло почти 70 лет, но вопрос о правоте того или другого из собеседников пока что окончательно не разрешен. Капитализм нигде добровольно не уступал место социализму (всюду, где дело доходило до этого, он применял беспощадный белый террор, провоцируя в ответ красный террор), но накопил в своих порах во много раз больше его технико-технологических, организационно-технических, социально-культурных элементов и предпосылок, чем в начале 30-х годов. Наблюдаемая сейчас подвижка в системе мотивации трудовой и предпринимательской деятельности в развитых капиталистических странах позволяет сделать очень осторожный вывод о снижении роли фактора прибыли как стимулятора деловой активности. Но это процесс, который может тянуться очень долго, ведь в лице развивающихся стран (а теперь и республик, входивших в СССР) капитализм располагает еще огромным резервом и полем экстенсивного роста, функционирования своих разнообразных, в том числе самых допотопных, диких и хищнических форм.
В свое время Маркс указывал на то, что «универсальность, к которой неудержимо стремится капитал, находит в его собственной природе такие границы, которые на определенной ступени капиталистического развития заставят осознать, что самым большим пределом для этой тенденции является сам капитал, и которые поэтому будут влечь людей к уничтожению капитала посредством самого капитала» [46, ч. I, 387]. Условия такого рода переворота, предугаданного наукой, пока еще не познаны. Он, конечно, будет замедлен наличием неразвитого, примитивного, еще не вкусившего все радости жизни, не пресыщенного капитализма во многих странах Азии, Африки и Латинской Америки. Уничтожение капитала было опробовано народами (и в полемике с Г. Уэллсом И. Сталин мог располагать лишь этим опытом) в одном-единственном, насильственном варианте. Экспроприация экспроприаторов — это поколению революционеров начала XX века было понятно. Но объективная самоэкспроприация?! Это пока что не вмещается ни в какие прежние представления — ни в марксистские, ни в буржуазные. Между тем здесь есть — по крайней мере теоретически — выход: признание того обстоятельства, что переходная эпоха налагает свою печать и на социалистическую, и на капиталистическую систему.
Анализируя в 1920 году послеоктябрьский международный опыт, Ленин отмечал, что, несмотря на громадные отличия отсталой России от передовых западноевропейских стран, «некоторые основные черты нашей революции имеют не местное, не национально-особенное, не русское только, а международное значение», понимая под этим «международную значимость или историческую неизбежность повторения в международном масштабе того, что было у нас...» В русле этого обобщения успешно развертывались многие народно-демократические и национально-освободительные революции, причем не обошлось и без заимствования ряда неподходящих форм преобразований или же утрировки явлений, которых следовало избежать, вроде, например, культа личности.
«Конечно, было бы величайшей ошибкой преувеличить эту истину, — предупреждал далее Ленин, — распространить ее не только на некоторые из основных черт нашей революции. Точно так же было бы ошибочно упустить из виду, что после победы пролетарской революции хотя бы в одной из передовых стран наступит, по всей вероятности, крутой перелом, именно: Россия сделается вскоре после этого не образцовой, а опять отсталой (в «советском» и в социалистическом смысле) страной» [41, 3—4].
Сейчас настал момент в полной мере осознать этот удивительный ленинский прогноз.
Приходится переживать нечто вроде указанного крутого перелома. Наше отставание в области повышения жизненного уровня от некоторых, еще недавно считавших себя социалистическими стран, не говоря уже о ведущих капиталистических державах, перехвативших лидерство в области научно-технического прогресса, надо признать без обиняков. Мы рискуем оказаться одной из отсталых стран не только по отношению к более развитым с точки зрения технологии государств, но и во всем мировом сообществе. Отсюда кое-кто делает откровенно пессимистические, а то и прямо капитулянтские выводы. Я с ними не согласен. На мой взгляд, Октябрь не только способствовал распространению и подъему на новый, не виданный до того всемирный уровень мирового революционного процесса, но и вынудил серьезно перестраиваться силы контрреволюции. Волей-неволей он вызвал в империалистических державах подъем производительных сил, заставил вырабатывать антикризисные мероприятия, искать средства стабилизации социальной обстановки. Нет нужды скрывать контрастно-противоречивый, зачастую лицемерно-демагогический, эгоистически мотивированный характер подобной деятельности. Но ведь еще наши учители говорили, что действия людей дают и такой результат, к которому они не стремились. Так что повторение «того, что было у нас», не задержалось, не могло по своей сути задержаться только в границах социалистического мира, но и задело (очевидно, в другом смысле и с прямо противоположными целями) капиталистические страны. В данной связи можно много и красиво рассуждать о хитрости диалектики и иронии истории, но для нашего изложения достаточно констатировать это как факт.
Международное значение Октябрьской революции мы раньше сводили к воздействию на непосредственную классовую борьбу и революционизированию масс, к влиянию, как когда-то писали, «силы примера». Но вызванные ею тектонические процессы к этому сводить нельзя. Октябрьская революция ускорила формирование объективных предпосылок социализма повсеместно, в том числе в странах, где экономический рост и социальные мероприятия осуществлялись под знаком реакционной политики, под бронированным колпаком империализма. Поэтому велением и творением эпохи не с одной стороны, не с другой, третьей и т. д., а со всех сторон является неравномерно, фрагментарно, с массой попятных скачков, с отливами и приливами, с озарениями и провалами, ошибками и победами становящийся в общепланетном масштабе «цельный социализм». Это было бы стократ подтверждено, если бы перестройка, выдержанная на коммунистические ориентиры, увенчалась успехом. Но это неизбежно и в том, хотелось бы надеяться, маловероятном случае, если мы надолго перестанем быть, реализуя рекомендации экономистов академической школы, социалистической страной. С точки зрения всемирной истории движение застопорится лишь отчасти. Зато потом становление «цельного социализма» окончательно охватит весь цивилизованный мир. Возможно, на первый план при таком, лишь абстрактно представляемом повороте событий выдвинется какая-то другая, высокотехнологичная держава или группа стран, но это лишь укрепит марксистский прогноз. Ничто не в состоянии поколебать «историческое место империализма, ибо монополия, вырастающая на почве свободной конкуренции, есть переход от капиталистического к более высокому общественно-экономическому укладу» [27, 420—421]. Прорыв к этому укладу, осуществленный столь решительно и масштабно, как у нас, потрясший и преобразивший весь мир, не может уйти бесследно в прошлое. Подобно Парижской коммуне, впервые показавшей пролетариям всех стран, что они могут взять власть, наш долгий радостный и горький опыт поможет человечеству с меньшими жертвами и издержками обрести, наконец, себя. Но это я пишу на тот крайний случай, если бы процесс, именуемый «перестройкой», совершенно вышел из социалистических берегов, чему пытается способствовать капиталистический Запад, — на худой конец. У народов России пока достаточно сил, физических и духовных, чтобы проявить социальную разборчивость и энергию и ликвидировать отклонение от русла, обозначенного на карте истории научным коммунизмом. (Не вычеркиваю эти слова, писанные в 1988 году, только потому, что в нынешней России, уже капиталистической, все еще живучи «пережитки социализма». Примечание 2002 года. — Р.К.)
Естественно-исторический процесс обладает свойством повторяемости, воспроизведения на очередном витке эволюционной спирали тех самых черт предшествующего развития, которые отрицались на его промежуточных стадиях. История моментами любит смотреться в зеркало минувшего. Так, капитализм, как бы он ни кичился достигнутыми высотами, может угадать в своем облике нечто от рабовладельческого строя, феодализм — обнаружить в себе черты, ведущие свое происхождение от разлагающейся первобытной общины и т. д. Если же говорить о современной эпохе в целом, то она, пожалуй, сопоставима по значимости и масштабности только с «азиатским способом производства» (АСП).
Напомню, что в главах III—IV уже говорилось о том, что АСП охватывает многовековую полосу перехода от архаически-коллективистского уклада жизни к частнособственнической цивилизации, — современная же эпоха, наоборот, охватывает переход от частнособственнического уклада жизни к цивилизованному коллективизму (коммунизму). Имеет место, так сказать, «зеркальный эффект», обратное отражение, хотя к аналогиям, подобным этой, следует прибегать лишь изредка и пользоваться ими осторожно.
При общинном фундаменте АСП столетиями возникают и опробуются рабовладельческие и феодальные отношения в их первозданном, зачастую зачаточном, совсем еще не развитом виде, или, скорее, их подобия. Используется и наемный труд. Существуют самодовлеющие патриархальные индивидуальные хозяйства. Формы эти, не достигшие на базе рутинной технологии полной зрелости, очень долго не в состоянии доказать своих экономических, социальных и культурных преимуществ. Из поколения в поколение ни одна из них не становится ни преобладающей, ни господствующей. Общество носит застойно-переходный характер. Прогресс движется подобно черепахе, закованной в панцирь накопившихся условностей и традиций, культурно-нравственных норм и устойчивых догм.
Стоящее над мелкими общинами связывающее их единое начало «выступает как высший собственник или единственный собственник, в силу чего действительные общины выступают лишь как наследственные владельцы. Так как это единое начало является действительным собственником и действительной предпосылкой общей собственности, то само оно может представляться чем-то особым, стоящим выше этого множества действительных отдельных общин, в которых каждый отдельный человек, таким образом, на деле лишен собственности, или собственность (т. е. отношение отдельного человека к природным условиям труда и воспроизводства как к принадлежащим ему, как к объективным условиям), собственность, как находимое им в виде неорганической природы тело его субъективности, представляется для него опосредованной тем, что объединяющее единое начало, реализованное в деспоте как отце этого множества общин, предоставляет надел земли отдельному человеку через посредство той общины, к которой он принадлежит. Прибавочный продукт, который, впрочем, определяется законодательно, как следствие действительного присвоения, посредством труда, принадлежит поэтому, само собой разумеется этому высшему единому началу» [46, ч. II, 463].
Вследствие низкой производительности труда он ограничен, что сдерживает процесс классообразования.
Прочитав эту выписку из Маркса, читатель наверняка обрадуется. Он вдруг увидит внешнее сходство АСП с тем, что ныне уже привычно именуется сталинской моделью социализма, «казарменным коммунизмом» и т. п.
Конечно, нельзя отрицать, что в послеоктябрьский период наблюдалось появление немалого числа, скажем так, возвратных форм. Наиболее наглядный пример — колхоз, образованный простым сложением индивидуальных средств труда, совершенно «без моторов», неосознанно копировавший давнюю общину и состоятельный в хозяйственном отношении лишь при условии скорого оснащения новейшей техникой. Однако останавливаться на этой констатации, на примерах и примерчиках, на живописании нашей некультурности и неумелости значило бы «перегибать» действительность в сторону дискредитации советского строя. Ни индустриализация конца 20-х — начала 30-х годов, осуществленная на уровне тогдашней передовой науки и техники, ни беспримерная культурная революция, вырвавшая из тьмы невежества многомиллионные массы, пусть они и заслуживают критики, не могут быть опорочены. Но дело не только в них. Тот тип организации экономики и общественной жизни, который у нас выработался в 20— 40-х годах, каким бы ограниченным и деформированным он нам сейчас ни представлялся, есть продукт исторического развития и не его ошибка, выкидыш и пр., как пытаются убедить многие публицисты, а одно из преходящих состояний.
Да, он не мог сложиться из «готовых», «чистых» социалистических форм, которых не было. Материалом для него служили уже имеющиеся или же вновь творимые социально-экономические формы, поневоле отмеченные чертами переходности, то есть двойственности, противоречивости, несущие в себе возможность выбросов мелкобуржуазности. Но лишь лица, стоящие на позициях исторического идеализма, могут требовать чего-то другого при распаде старого и возведении нового общественного уклада. Сам материал, из которого он составлялся, есть исторический продукт, как и люди, которые им распоряжались. Ошибки и деформации, допущенные этими, очевидно несовершенными людьми (а совершеннее ли их нынешние «судьи»?), не могут быть оправданы, но они должны быть объяснены, то есть объективно проанализированы в системе причинно-следственных связей. Нельзя подменять научное исследование одним, пусть ярким и захватывающим, морализаторством. Антитеза «гений и злодейство» очень многое просвечивает в межличностных, а иногда и групповых взаимоотношениях, но она малопродуктивна при рассмотрении крупных исторических сдвигов. Ошибок и деформаций могло бы быть меньше. Нельзя утверждать, что осуществился оптимальный вариант движения. Но прошлое — это такая реальность, которой нет альтернатив.
Та социально-экономическая модель, которая возникла после Октября в нашей стране и теперь подвергается критике справа и слева, если бы даже была доказана ее несостоятельность, не может быть вычеркнута из истории. Она полностью или частично импортирована социалистическими и некоторыми развивающимися странами, учтена в капиталистическом лагере при формировании государственно-монополистической системы. Без ее влияния немыслим сейчас даже соблазнительно цветущий (за счет сверхэксплуатации высококвалифицированного пролетариата, неэквивалентного обмена с молодыми государствами, внимательного отслеживания и рационального использования передовых организационных идей) капитализм. Как бы ни увлекал нас в порыве к новому качеству социализма или же рыночному «раю» публицистический мазохизм, «комплексовать» нет причин. Комплекс неполноценности нам внушают классовые оппоненты, стремящиеся выбить из колеи, лишить «куража» коллективистский уклад, вернуть весь мир к частнособственническим порядкам. Но в чистоте своей этот замысел уже неосуществим. Технико-технологическое и организационно-техническое обобществление труда и производства, интернационализация общественной жизни, «всемиризация» истории делают несостоятельным как утопический социализм, так и «утопический капитализм». Более того, современная переходная эпоха во все более расширяющемся масштабе воспроизводит воздействие Октября на новом уровне, причем непосредственная связь с первоисточником бывает утрачена, отрицаема, замалчиваема или же забыта, но не может не сказываться как ушедшая в основание. Мне даже представляется, что эта эпоха по аналогии с «азиатским способом производства» могла бы быть условно обозначена как «советский способ производства» (ССП) с учетом того, что слово «азиатский» отнюдь не означало социально-географической привязки соответствующего уклада жизни только к одному восточному континенту, а слово «советский», при всей его специфичности в данном употреблении, приобретает универсальный смысл. Подобно тому, как принадлежность общества к АСП, которая констатируется для Китая и для Египта, для Золотой Орды и для доколумбовой Америки, не означает непременной принадлежности к желтой расе, подобно этому ССП отнюдь не означает принадлежности к «сателлитам» «советской империи». Термин этот употребляется здесь как всемирно-исторический, а не конкретно-политический, и значим он и для «развивающихся», и для развитых стран, включая «сами» Соединенные Штаты.
Если совместить рассматривавшиеся методологические подходы, давшие нам пятичленное и трехформационное деление естественно-исторического процесса с прибавлением двух всемирно-исторических эпох, то получается следующая схема:
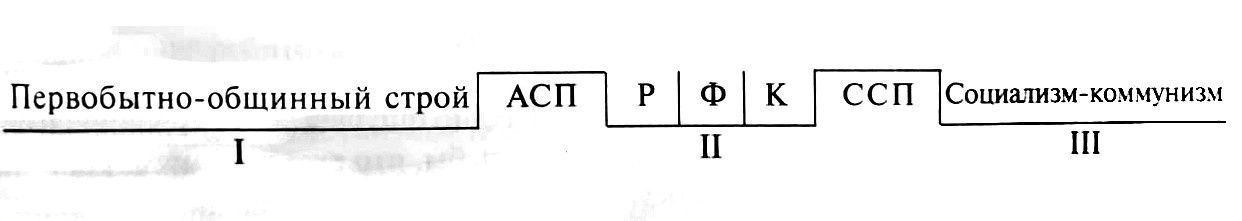
Первичная формация совпадает с первобытно-общинным способом производства; вторичная — с тремя последовательно сменяющими друг друга классово-антагонистическими способами производства: рабовладельческим, феодально-крепостническим и капиталистическим; третичная — с социализмом и коммунизмом.
«Азиатский способ производства» и «советский способ производства» «зеркально» соответствуют: один — частнособственнической дезинтеграции первородной безличной коллективности естественно сформировавшихся человеческих ассоциаций, их распылению и дифференциации, другой, наоборот, соединению эгоистических индивидов с опорой на достижения индустриально-капиталистической культуры, прежде всего на появившуюся наконец слитную коммунизирующую технологию, в цивилизованный кооператив. Именно в рамках ССП обществоведам предстоит определить сущность и место «перестройки» и «постперестройки» как одного из напряженных состояний и этапов развития нашего общества в переходный период от капитализма к социализму. Именно здесь видится направление главного удара в ходе осуществления прорыва на теоретическом фронте.
